Читать онлайн Виллет бесплатно
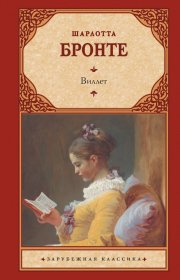
Глава I
Бреттон
Моя крестная матушка жила в чистом старинном городе Бреттоне, в красивом доме. Семья ее мужа обосновалась здесь давным-давно, много поколений назад, и носила фамилию, совпадавшую с названием места: Бреттон. Не могу сказать, произошло ли это по случайному совпадению или потому, что далекий предок обладал достаточной важностью, чтобы поделиться собственным именем с родным городом.
В детстве я ездила в Бреттон дважды в год – и, должна признаться, с удовольствием. И сам дом, и его обитатели чрезвычайно мне нравились. Просторные тихие комнаты, продуманно расставленная изящная мебель, большие сияющие окна, балкон, выходивший на красивую старинную улицу, где, казалось, никогда не кончались воскресенья и праздники, – такая здесь царила тишина, такими аккуратными выглядели тротуары. Спокойствие и порядок радовали душу.
Единственный ребенок в окружении взрослых неизбежно превращается в объект пристального внимания. Я постоянно ощущала несуетную заботу миссис Бреттон, оставшуюся вдовой с сыном на руках еще до того, как я ее узнала. Муж-доктор умер давно, когда она была еще молодой и красивой.
Я помню ее уже в солидном возрасте, но по-прежнему привлекательной: высокой, хорошо сложенной, сохранившей здоровую свежую, хотя и слишком смуглую для англичанки кожу и живость прекрасных выразительных черных глаз. Люди с сожалением отмечали, что яркая внешность не передалась ее сыну: тот родился с голубыми, но необычайно пронзительными глазами и светлыми волосами, цвет которых доброжелатели не осмеливались определить до той минуты, пока солнечный свет не делал их золотистыми. От матери юноша унаследовал правильные черты лица, хорошие зубы, гордую осанку (точнее, обещание осанки, поскольку был еще слишком молод), а также, что важнее, безупречное здоровье и спокойный твердый характер, который зачастую ценился выше богатства.
Осенью 18… года я гостила в Бреттоне. Крестная сама приехала специально для того, чтобы забрать меня у родственников, с которыми я постоянно жила в то время. Думаю, она отчетливо предвидела будущие события, чью неясную тень я едва различала, но все же испытывала смутную тревогу и необъяснимую печаль, а потому с радостью сменила и обстановку, и круг общения.
Рядом с миссис Бреттон время всегда текло плавно, без бурной спешки, мягко, подобно спокойному движению полноводной реки по долине. Мои приезды к ней напоминали встречи Христианина и Верного[1] возле благостного потока с «зелеными деревьями на обоих берегах и лугами, круглый год украшенными лилиями». Здесь не было ни очарования разнообразия, ни волнения событий, но я настолько глубоко любила покой и так мало нуждалась во внешних побуждениях, что, когда таковые появлялись, ощущала их едва ли не помехой и втайне желала скорейшего освобождения.
Однажды пришло письмо, содержание которого заметно удивило и встревожило миссис Бреттон. Поначалу я решила, что оно из дома, и задрожала от страха в ожидании неведомых, но бедственных известий, однако мне ничего сказано не было: очевидно, туча пронеслась мимо.
На следующий день, вернувшись с долгой прогулки, я обнаружила в спальне неожиданные изменения. Помимо моей постели, уютно притаившейся в алькове, в углу комнаты появилась маленькая белая кроватка, а рядом с моим комодом красного дерева возник палисандровый шкафчик.
– Что все это значит? – в полном недоумении спросила я горничную и получила краткий, но внятный ответ:
– Миссис Бреттон ожидает новых постояльцев.
Более обстоятельное объяснение я услышала за ужином: скоро у меня появится соседка – дочка дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Малышка недавно осталась без матери, хотя, как тут же присовокупила миссис Бреттон, утрата не столь велика, как может показаться на первый взгляд. Миссис Хоум была очень хорошенькой, но легкомысленной, ветреной особой, о ребенке заботилась плохо и доставляла одни лишь разочарования мужу. Союз оказался настолько далеким от идеала семейного счастья, что в конце концов привел к расставанию – по обоюдному согласию супруги разъехались, не прибегая к судебному процессу. Вскоре после этого мадам на балу подхватила лихорадку: болезнь развивалась стремительно и закончилась печально. Слишком чувствительный супруг, шокированный известием, твердо уверовал, что виной всему – его излишняя суровость в обращении с женой, а также недостаток терпения и снисходительности, и так глубоко погрузился в раскаяние, что его душевное равновесие стало вызывать опасения. Врачи настоятельно рекомендовали ему отправиться в длительное путешествие, поэтому миссис Бреттон предложила взять на себя заботу о малышке.
– Надеюсь, – заключила свой рассказ крестная матушка, – девочка не вырастет такой же пустой, ветреной кокеткой, на которой угораздило жениться разумного мужчину, пусть и не слишком практичного. Мистер Хоум совершенно погружен в науку и половину жизни проводит в лаборатории за экспериментами, чего легкомысленная жена не смогла ни понять, ни принять. Честно говоря, – со вздохом призналась крестная, – мне и самой такая жизнь вряд ли бы понравилась.
В ответ на мой вопрос миссис Бреттон сообщила, что, как говаривал ее покойный супруг, склонность к науке мистер Хоум унаследовал от дядюшки по материнской линии – французского ученого. Судя по всему, давний друг обладал смешанным французско-шотландским происхождением и имел во Франции родственников, не только гордо предварявших фамилию частицей «де», но и называвших себя наследниками старинного аристократического рода.
Тем же вечером, в девять часов, слуга отправился встречать экипаж, в котором должна была прибыть наша маленькая гостья. Мы с миссис Бреттон сидели в гостиной вдвоем и ждали; Джон Грэхем Бреттон отправился навестить школьного товарища, который жил за городом. Крестная коротала время за чтением свежей газеты; я шила. Вечер выдался ненастным: по окнам хлестал дождь, тревожно завывал ветер.
– Бедное дитя! – время от времени восклицала миссис Бреттон. – Погода совсем не для путешествия! Скорее бы уж они приехали!
Около десяти звонок в дверь возвестил о возвращении Уоррена. Я тут же побежала в холл, куда вносили дорожный сундук и несколько коробок с ручками. У двери стояла особа, похожая на няню, а у подножия лестницы – Уоррен со свертком в руках.
– Это ребенок? – спросила я.
– Да, мисс.
Я попыталась, чуть приоткрыв одеяло, взглянуть на личико малышки, но она быстро повернула голову и уткнулась Уоррену в плечо.
– Отпустите меня, пожалуйста, – раздался тонкий голосок, едва Уоррен открыл дверь гостиной. – И уберите наконец это!
Маленькая ручка вытащила булавку и брезгливо сбросила покрывало. Возникшее из кокона существо попыталось его сложить, однако не справилось – слишком тяжело для слабых рук.
– Отдайте это Харриет! – последовало холодное распоряжение. – Она уберет.
Девочка повернулась и устремила внимательный взгляд на миссис Бреттон.
– Иди сюда, милая крошка, – позвала крестная. – Замерзла, поди, промокла. Давай-ка сюда, к камину.
Девочка без возражений повиновалась. Освобожденная от покрова, она выглядела как настоящая кукла с нежным фарфоровым личиком, шелковыми кудрями и точеной фигуркой.
Миссис Бреттон усадила ее к себе на колени, и нежно воркуя, принялась растирать игрушечные ладошки, ручки и ножки. Поначалу ответом ей служил лишь задумчивый взгляд, но скоро на личике появилась улыбка. Обыкновенно миссис Бреттон не отличалась особой сентиментальностью, даже в обращении с глубоко обожаемым сыном, скорее наоборот. Но когда малышка улыбнулась, неожиданно поцеловала ее и ласково спросила:
– Как же зовут нашу крошку?
– Мисси.
– А у мисси есть имя?
– Папа называет меня Полли.
– Полли не против жить здесь, с нами?
– Только до тех пор, пока папа не вернется домой. Он уехал.
Девочка грустно вздохнула, и миссис Бреттон поспешила ее успокоить:
– Он обязательно приедет за своей дочуркой.
– Правда, мэм? Вы это точно знаете?
– Уверена, что так и будет.
– А Харриет думает, что нет: во всяком случае, не скоро. Он болеет.
Глаза малышки наполнились слезами, она вырвала руку и попыталась высвободиться, а когда ощутила сопротивление, холодно заявила:
– Пожалуйста, отпустите: я хочу сесть на скамейку.
Получив свободу, она сползла с колен, взяла скамеечку для ног, отнесла ее в самый темный угол и там уселась. Несмотря на твердость и даже жесткость характера, в мелочах миссис Бреттон частенько проявляла пассивную снисходительность. Вот и сейчас, позволив малышке поступить по-своему, крестная заметила, обернувшись ко мне:
– Просто не обращай внимания. Пусть делает что хочет.
Но я не могла. Сердце мое разрывалось при виде Полли. Упершись локотком в колено, она достала из кармашка своей кукольной юбочки носовой платок размером в квадратный дюйм и тихонько заплакала. Обычно дети громко, без стыда и смущения, криком выражают боль, печаль или недовольство, а у этого призрачного существа лишь редкие всхлипывания выдавали сокровенные чувства. Хорошо, что миссис Бреттон ничего не слышала, пока из глубокой тени не раздался требовательный голос:
– Велите позвать Харриет!
Я позвонила, и няня немедленно явилась.
– Харриет, уложите меня спать! – приказала маленькая госпожа. – Спросите, где моя постель.
Няня жестом дала ей понять, что уже все выяснила, и тогда девочка уточнила:
– А ты будешь спать со мной, Харриет?
– Нет, мисси. Вам предстоит делить комнату вот с этой юной леди, – указала на меня няня.
Мисси не покинула свое убежище, однако я ощутила на себе пристальный взгляд. После нескольких минут молчаливого изучения девочка наконец вышла из темного угла и, поравнявшись с миссис Бреттон, вежливо произнесла:
– Доброй ночи, мэм.
На меня она даже не взглянула, но я все же сказала:
– Доброй ночи, Полли.
– Нет необходимости прощаться, раз мы спим в одной комнате, – последовал резкий ответ, и малышка вышла из гостиной. Мы услышали, как Харриет предложила отнести ее наверх, но Полли повторила:
– Нет необходимости.
Они поднялись по лестнице, и скоро все стихло.
Когда через час я пришла в комнату, чтобы лечь спать, моя соседка бодрствовала, с удобством устроившись среди подушек. Сложив руки на одеяле, девочка сидела абсолютно неподвижно. Некоторое время я молча смотрела на нее и лишь перед тем, как задуть свечу, предложила ей лечь.
– Скоро лягу, – прозвучал холодный ответ.
– Но вы же простудитесь, мисси.
Полли взяла со стоявшего возле кровати стула какое-то крошечное одеяние и прикрыла плечи, но так и не легла. Я не вмешивалась: пусть поступает по собственному усмотрению, – хотя и, прислушавшись в темноте, поняла, что она все еще плачет – тихо и сдержанно.
Проснулась я на рассвете от звука льющейся воды и с удивлением увидела, что Полли уже встала, забралась на скамейку возле умывальника и, наклонив кувшин, потому что не могла поднять, лила его содержимое в таз. Это меня поразило: такая маленькая, но сама умывается и одевается. Было очевидно, что малышка не привыкла самостоятельно совершать туалет: пуговицы, завязки, крючки и петли вызвали затруднения, но она преодолевала их с достойной уважения настойчивостью. Закончив, Полли сложила ночную сорочку, аккуратно заправила постель, тщательно разгладив покрывало, и ушла в угол, за белую штору, где и затихла. Я приподнялась и вытянула голову, чтобы посмотреть, что происходит. Малышка стояла на коленях, закрыв лицо ладонями, и, судя по всему, молилась.
В дверь постучали, и она быстро поднялась.
– Это ты, Харриет? Я оделась сама, но не очень опрятно. Приведи меня в порядок!
– Зачем же вы это сделали, мисси?
– Тсс! Говори тише, Харриет, не то разбудишь девочку. – (Я притворилась спящей и лежала с закрытыми глазами). – Мне же надо научиться все делать самой к тому времени, как ты меня оставишь.
– Хотите от меня избавиться?
– Раньше хотела, особенно когда ты сердилась, но сейчас нет. Завяжи мне пояс ровно и приведи в порядок волосы.
– С поясом все хорошо. Что вы за привереда!
– Нет, его нужно завязать заново! Пожалуйста, сделай это.
– Хорошо, будь по-вашему. Когда я уйду, кого вы станете просить вас одевать – эту юную леди?
– Ни в коем случае!
– Почему же? Очень приятная особа. Надеюсь, вы с ней не станете проявлять свой капризный нрав.
– Никому ни за что не позволю меня одевать, тем более ей!
– До чего же вы забавная!
– Криво, Харриет! Смотри: пробор неровный.
– Вам просто невозможно угодить. Вот так лучше?
– Намного. Куда нам теперь?
– Пойдемте, я провожу вас на завтрак.
Они направились к двери, но девочка вдруг остановилась и воскликнула:
– О, Харриет, как бы мне хотелось, чтобы это был папин дом! Я совсем не знаю этих людей.
– Все будет хорошо, мисси, если вы не станете вредничать.
– Но я здесь страдаю! – Малышка прижала ручку к сердцу и театрально воскликнула:
– Папа! Ах, милый папа!
Я решила все же встать с постели, чтобы пресечь сцену, пока чувства не вышли за рамки допустимого.
– Пожелайте юной леди доброго утра, – попросила Харриет подопечную.
Полли равнодушно буркнула приветствие и вслед за няней вышла из комнаты.
Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина (девочка называла себя Полли, но полное ее имя было Полина Мэри) сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стояла кружка молока, в руке, пассивно лежавшей на скатерти, она держала кусок хлеба, но ничего не ела.
– Не знаю, как успокоить малышку, – обратилась ко мне крестная матушка. – Не проглотила ни кусочка и, судя по всему, глаз не сомкнула.
Я решила не обострять ситуацию и заверила миссис Бреттон, что время и наша доброта все исправят.
– Мы все должны окружить ее любовью и заботой, успокоить, – заключила мудрая крестная.
Глава II
Полина
Прошло несколько дней, но малышка так и не прониклась теплыми чувствами ни к кому из домашних. Она не капризничала, не проявляла своеволия или непослушания, но существо, менее склонное к утешению или спокойствию, трудно было представить. Полли страдала: ни один взрослый человек не смог бы лучше изобразить это унылое, тягостное состояние. Ни одно хмурое лицо изгнанника, тоскующего по родине вдалеке от ее пределов, никогда не выражало это более красноречиво, чем бледное детское личико. Девочка осунулась, была безучастна и далека от жизни. Я, Люси Сноу, прошу не обвинять меня в разгуле разгоряченного и даже болезненно воспаленного воображения, но всякий раз, когда доводилось открыть дверь в спальню и увидеть ее сидящей в углу в полном одиночестве, с опущенной на руку головой, комната казалась не обитаемой, а призрачной.
Просыпаясь ночью при свете луны, я видела на соседней кровати фигурку в белой ночной сорочке, преклонившую колени в молитве, достойной истового католика или методиста – своего рода скороспелого фанатика или преждевременного святого, – и терялась в раздумьях. В мозгу проносились мысли не более здравые и разумные, чем те, которыми, судя по всему, было заполнено сознание этого ребенка.
До меня редко долетали слова молитвы, поскольку произносились очень тихо, а иногда и вовсе оставались невысказанными. Достигавшие моего слуха короткие фразы неизменно были обращены к одному человеку: «Папа, мой дорогой папа!»
Стало ясно, что дитя одержимо единственной идеей. Всегда считала и считаю, что подобное маниакальное состояние – самое страшное проклятие, способное постигнуть мужчину или женщину.
К чему могли привести эти мучения, если бы продолжались беспрепятственно, можно лишь догадываться, однако ситуация получила неожиданное развитие.
Однажды днем Полли, как обычно, пряталась в своем углу, но миссис Бреттон выманила ее, усадила на подоконник и, чтобы отвлечь внимание, попросила понаблюдать за прохожими и сосчитать, сколько дам пройдет по улице за определенное время. Девочка никак не отреагировала на предложение и осталась безучастной. Я пристально за ней наблюдала, поэтому заметила, как внезапно все изменилось: выражение лица, даже радужная оболочка глаз. Непредсказуемые, странные натуры – как правило, очень чувствительные – представляют собой любопытное зрелище для более уравновешенных, не склонных к неожиданным выходкам. Неподвижный тяжелый взгляд вдруг поплыл, задрожал, а потом вспыхнул огнем. Маленький нахмуренный лоб разгладился. Невыразительные унылые черты осветились интересом. Выражение печали исчезло, уступив место внезапной радости после напряженного ожидания.
– Вот он! – воскликнула Полли.
Подобно птичке, насекомому или другому крошечному стремительному существу она вылетела из комнаты. Как ей удалось справиться с тяжелой входной дверью, не знаю. Должно быть, та оставалась приоткрытой или неподалеку оказался Уоррен и распахнул ее по не допускавшему сомнений требованию юной особы. Спокойно глядя в окно, я увидела, как девочка в черном платьице и крошечном кружевном переднике (детских фартучков она не признавала) побежала по улице, а когда хотела было обернуться, оповестить крестную, что дитя мечется в безумии и необходимо немедленно что-то предпринять, малышка внезапно исчезла в объятиях какого-то джентльмена. Тот ловко ее поймал, подхватил на руки, спрятал под своим плащом и понес к нашему дому.
Я решила, что этот доброжелатель передаст Полли слугам и уйдет, однако он поступил иначе: на мгновение задержавшись внизу, поднялся в гостиную.
Оказанный прием все объяснил: джентльмен хорошо известен миссис Бреттон. Она сразу его узнала и встретила теплым приветствием, хотя была взволнована, удивлена, и явно застигнута врасплох. При этом весь ее облик и манеры выражали осуждение. Джентльмен, как выяснилось, прекрасно понимал причину, поскольку, будто извиняясь, произнес:
– Не смог удержаться, мэм. Понял, что не в состоянии покинуть страну, не увидев собственными глазами, как устроена моя крошка.
– Но вы встревожите девочку.
– Надеюсь, что нет. – Джентльмен присел и поставил дочку перед собой. – Как поживает папина маленькая Полли?
– А как поживает мой большой папа? – радостно вопросила малышка, опершись на колено отца и заглянув ему в лицо.
Встреча дочери с отцом не была многословной, излишне эмоциональной, за что я им была благодарна, однако переживания взрослого и ребенка до краев наполняли чашу терпения. Их чувства не пенились и не вырывались бурным потоком, и это удручало еще больше. Во всех случаях яростных, несдержанных излияний на выручку утомленному наблюдателю приходят презрение или насмешка, однако меня всегда чрезвычайно угнетал тот тип эмоциональности, который сам себя сдерживает, оставаясь покорным рабом здравого смысла.
Мистер Хоум обладал суровым – скорее даже мрачным – обликом: бугристый лоб, высокие, выдающиеся скулы. Резкие черты его лица вполне соответствовали шотландскому типу и выдавали натуру страстную, однако в глазах светилась глубокая любовь. Гармонировал с такой внешностью и северный акцент. Джентльмен держался хоть и скромно, но с достоинством.
– Поцелуй Полли, – тихонько попросила девочка.
Он нежно погладил дочь по головке и выполнил ее просьбу. Мне хотелось, чтобы малышка истерично закричала: тогда я смогла бы испытать облегчение и успокоиться, – но она лишь издала едва слышный звук, больше похожий на вздох. Казалось, получив желаемое, она впала в блаженное полузабытье. Ни манерой, ни внешностью это создание не напоминало отца и все же явно унаследовало его черты: сознание Полины Мэри наполнялось из сознания мистера Хоума, как чашка из кувшина.
Несомненно, какие бы чувства ни испытывал в глубине души, мистер Хоум мужественно владел собой. Нежно глядя на дочку сверху вниз, он проговорил:
– Полли, сходи, пожалуйста, в холл. Там на стуле увидишь папино пальто. Достань из кармана платок и принеси сюда.
Малышка тут же побежала выполнять просьбу отца, а вернувшись, увидела, что он разговаривает с миссис Бреттон. С платком в руке, девочка остановилась, такая крошечная и опрятная. Поскольку мистер Хоум не ожидал столь скорого возвращения дочери, девочка взяла его за руку, раскрыла ладонь, вложила в нее платок и закрыла пальцы по одному. Внешне джентльмен никак не показал, что заметил девочку, однако вскоре подхватил на руки. Малышка прижалась к отцу, и казалось, оба были счастливы, хотя ни слова не сказали друг другу.
За чаем мелкие действия и случайные реплики, как обычно, дали богатую пищу для наблюдения. Прежде всего Полли обратилась к Уоррену, когда тот расставлял стулья.
– Поставьте папин стул сюда, рядом мой, а потом – миссис Бреттон. И еще: я сама подам ему чай.
Когда распоряжение было выполнено, она заняла свое место и рукой поманила отца:
– Сядь рядом, папа, как будто мы дома.
Мистер Хоум безропотно подчинился, и, завладев его чашкой, Полли принялась размешивать сахар, а потом, добавляя сливки, напомнила:
– Дома я всегда сама ухаживала за тобой, и никто не сможет сделать это лучше меня.
Все время, пока длилось чаепитие, девочка проявляла внимание к отцу, хотя попытки услужить выглядели довольно абсурдными. Сахарные щипцы оказались слишком широкими для одной детской ручки, и малышке пришлось держать их обеими. Вес серебряного сливочника, тарелок с бутербродами, даже чашки с блюдцем требовал максимального напряжения сил, однако Полли самоотверженно все это поднимала, подавала и даже ухитрилась ничего не разбить. Честно говоря, мне ее поведение показалось слишком уж нарочитым, однако мистер Хоум – пристрастный, как все родители, – выглядел вполне довольным и благосклонно принимал ее заботу.
– Полли мое счастье! – с чувством заметил он, обращаясь к миссис Бреттон.
Поскольку крестная обладала собственным «счастьем», причем куда бо́льшим, слабость гостя она приняла сочувственно.
Это самое «счастье» появилось на сцене несколько позже. Я знала, что именно в этот день миссис Бреттон ожидала возвращения сына. Грэхем присоединился к нашему кружку, когда после чая все мы сидели возле камина. Точнее, нарушил спокойное течение вечера, поскольку, как и следовало ожидать, его появление вызвало суматоху. Юный джентльмен проголодался с дороги, и следовало немедленно его накормить. С мистером Хоумом он поздоровался как с давним знакомым, а на девочку до поры до времени не обращал внимания.
Подкрепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, Грэхем повернулся от стола к камину, и напротив него оказались мистер Хоум и ребенок. Слово «ребенок», конечно, совсем не подходит к этому существу. Оно подразумевает любую картину, кроме образа скромной маленькой особы в траурном платьице и белой манишке, вполне пригодной для куклы. Особа эта сидела на высоком стуле возле рабочего столика, где стояла игрушечная деревянная шкатулка для шитья, покрытая белым лаком. В руках она держала крошечный носовой платок и старательно его обметывала, упрямо протыкая ткань иглой, казавшейся в ее пальчиках едва ли не вертелом. Игла то и дело попадала мимо платка, оставляя на белом батисте след из маленьких красных точек. Время от времени, когда непослушное орудие окончательно выбивалось из-под контроля и кололо особенно больно, юная леди вздрагивала, но тут же продолжала работу – по-прежнему молча, прилежно, сосредоточенно, по-женски.
В то время Грэхем, шестнадцатилетний юноша, был красив какой-то обманчивой красотой. Я говорю «обманчивой» не потому, что он отличался истинно предательскими склонностями, а потому что это определение кажется мне подходящим для описания светлого, кельтского (не саксонского) свойства его красоты. Легкие каштановые волосы развевались, черты выглядели гармоничными, лицо часто освещала улыбка, но не несла в себе ни обаяния, ни тонкости (не в плохом смысле). В те дни это был избалованный, эксцентричный молодой человек.
После долгого молчаливого изучения миниатюрной особы, сидевшей напротив, воспользовавшись временным отсутствием мистера Хоума, что избавило его от полунасмешливой робости – единственного знакомого проявления скромности, юноша проговорил:
– Матушка, у нас в гостях юная леди, а я до сих пор ей не представлен.
– Полагаю, речь идет о дочке мистера Хоума? – уточнила миссис Бреттон.
– Именно так, мэм, – подтвердил Грэхем. – Считаю нужным заметить, что такая фамильярность по отношению к благородной особе неприемлема: ее следует называть «мисс Хоум», и не иначе.
– Прекрати паясничать, Грэхем: недопустимо дразнить ребенка. Даже не надейся, что позволю тебе сделать девочку мишенью для насмешек.
– Мисс Хоум, – не обращая внимания на возражения матери, обратился к гостье юноша. – Позвольте мне представиться самому, раз никто из присутствующих не проявляет готовности нас познакомить: Джон Грэхем Бреттон, ваш покорный слуга.
Девочка подняла голову и внимательно посмотрела на молодого человека. Тот встал и чрезвычайно серьезно поклонился. В ответ Полли неторопливо сняла наперсток, отложила рукоделие в сторону и, осторожно спустившись со своего насеста, с непередаваемо торжественным видом присела в глубоком реверансе и важно произнесла:
– Как поживаете?
– Имею честь пребывать в добром здравии, вот только немного устал с дороги. Надеюсь, мэм, вы хорошо себя чувствуете?
– Не-верр-роятно хорошо, – последовал амбициозный ответ маленькой леди, и она попыталась вернуться на прежнее место, но обнаружив, что замысел невозможно осуществить без некоторого карабканья – немыслимого ущерба для собственного достоинства, – и категорически презирая помощь в присутствии странного молодого джентльмена, немедленно отказалась от высокого стула ради низенькой скамеечки.
Она чинно уселась на ней, расправив складки юбочки, и Грэхем придвинул свой стул поближе.
– Надеюсь, мэм, здесь, в доме моей матушки, вам удобно?
– Не то чтобы… Хотелось бы вернуться к себе домой.
– Естественное и вполне понятное желание, мэм, но тем не менее я всеми силами постараюсь ему противостоять. Рассчитываю получить от вас немного того драгоценного материала, которое называется развлечением. Матушка и мисс Сноу лишены его напрочь.
– Вряд ли я задержусь здесь – мы с папой скоро уедем.
– Уверен, что смогу вас переубедить. У меня есть пони, так что сможете кататься, и много книжек с картинками.
– Вы что, собираетесь теперь жить здесь?
– Да. Это вас не радует? Я вам не нравлюсь?
– Нет.
– Почему же?
– Вы какой-то странный.
– Чем же, мэм?
– Увас длинные рыжие волосы, и вообще…
– Каштановые, позвольте заметить. Мама называет их золотистыми, да и все ее подруги тоже. Но даже с этими, как вы выразились, «длинными рыжими волосами», – победно тряхнул он гривой, которую и сам признавал рыжевато-коричневой, гордясь львиным окрасом, – вряд ли я выгляжу более странным, чем ваша милость.
– Вот как?
– Несомненно.
Полли долго молчала, потом вдруг заявила:
– Кажется, мне пора спать.
– Такой крохе, как вы, уже давно пора было лежать в постели. Возможно, вы специально задержались в надежде увидеть меня?
– Не обольщайтесь.
– А я абсолютно уверен в обратном. Знали, что я должен сегодня вернуться, вот и дожидались встречи, чтобы насладиться моим обществом.
– Сидела я здесь ради папы, а вовсе не из-за вас.
– Что ж, ладно, мисс Хоум. Но все же осмелюсь предположить, что скоро стану вашим лучшим другом.
Полли пожелала нам с миссис Бреттон доброй ночи, и пока размышляла, заслуживает ли подобной чести Грэхем, тот ухватил ее одной рукой и поднял так высоко над головой, что девочка увидела себя в каминном зеркале. Внезапность и непочтительность поступка так возмутили воспитанную особу, что та негодующе воскликнула:
– Стыдитесь, мистер Грэхем! Немедленно опустите!
Едва ощутив под ногами твердую почву, прежде чем гордо удалиться, Полли заметила:
– Хотелось бы знать, что бы подумали обо мне вы, если бы я обошлась с вами точно так же и подняла за шкирку, как Уоррен котенка.
Глава III
Игра
Мистер Хоум задержался у нас на два дня. Во время визита он не желал выходить из дома: почти все время сидел возле камина, иногда молча, иногда поддерживая беседу с миссис Бреттон. Такие разговоры как нельзя лучше подходили его мрачному настроению – не слишком сочувственные и все же не раздражающие – словом, разумные и даже с некоторым оттенком материнского участия. Хозяйка дома в силу своего возраста могла позволить себе немного снисходительности. Что же касается Полины, девочка была совершенно счастлива, хотя по-прежнему молчалива и сосредоточенна, что не мешало ей оставаться деятельной и внимательной.
Отец часто сажал ее на колени, и она сидела до тех пор, пока не ощущала или не воображала себе его неудобство, и тогда говорила:
– Папа, отпусти меня, ты же устал: я тяжелая.
Устроившись на ковре или на скамеечке у ног отца, Полли открывала белую шкатулку для шитья и брала крошечный платочек в красных точках. Очевидно, этот кусочек ткани предназначался в качестве памятного подарка, и закончить его следовало до отъезда отца, а значит, к швее предъявлялись повышенные требования (за полчаса ей удалось сделать примерно десяток стежков).
Вечер, когда из школы домой возвратился Грэхем, принес новое оживление – качество, нисколько не преуменьшенное природой тех сцен, которые должны были разыграться между ним и мисс Полиной.
Недостойное поведение юноши при их знакомстве стало причиной холодного, высокомерного отношения с ее стороны. Обращаясь к юной леди, Грэхем получал неизменный отказ:
– Не могу уделить вам внимание: мне есть о чем подумать.
На вопрос, что именно занимает ее мысли, следовал исчерпывающий ответ:
– Дела.
Грэхем попытался привлечь внимание гостьи, открыв ящик стола и продемонстрировав разнообразное содержимое: печати, яркие восковые палочки, ножи для заточки перьев, а также многочисленные гравюры – в том числе и ярко раскрашенные, – коллекция которых время от времени пополнялась. Нельзя утверждать, что могучее искушение прошло бесследно: глаза Полли, когда она украдкой поднимала голову, то и дело обращались к картинкам на письменном столе. Изображение мальчика с лохматым спаниелем случайно улетело на пол, и девочка в восторге воскликнула:
– Какая милая собачка!
Грэхем благоразумно не обратил на реплику внимание, и вскоре Полли появилась из угла, чтобы внимательно рассмотреть сокровище. Выразительные глаза и длинные уши спаниеля, а также украшенная перьями шляпка ребенка произвели неотразимое впечатление.
– Красивая картинка! – последовал благоприятный отзыв.
– Можете взять себе, – невозмутимо предложил Грэхем.
Девочка явно колебалась.
Желание обладать вещицей было очень сильным, но принять подарок означало бы поступиться достоинством. Нет, она не могла, поэтому положила картинку на стол и отвернулась.
– Что, не возьмете, Полли?
– Пожалуй, нет. Спасибо.
– А знаете, что я в таком случае сделаю?
Девочка повернулась к нему.
– Разрежу картинку на полоски и стану поджигать их свечой.
– Нет!
– Именно так и поступлю.
– Пожалуйста, не надо.
Умоляющий тон лишь подогрел мстительность Грэхема. Он достал из рабочей корзинки матери ножницы и провозгласил, угрожающе взмахнув орудием казни:
– Вот так. Прямо через голову Фидо и нос маленького Гарри.
– Нет! Нет! Нееет!
– Тогда подойдите, и побыстрее, не то я сделаю, что задумал.
Полли чуть помедлила, но все же подчинилась.
– Итак, возьмете? – спросил Грэхем, когда она оказалась перед ним.
– Да, пожалуйста.
– Но не бесплатно.
– И чего же вы хотите?
– Поцелуй.
– Сначала отдайте картинку.
Хоть Полли и не внушала доверия, Грэхем отдал гравюру. Девочка тут же подбежала к отцу и спряталась у него на коленях, а юноша в притворном гневе встал и пошел следом. Малышка уткнулась лицом в жилет мистера Хоума и взмолилась:
– Папа, папа, прогони его!
– Я не подчинюсь! – категорично заявил Грэхем.
Полли вытянула руку, словно пыталась удержать его на расстоянии, и юноша пригрозил:
– В таком случае поцелую руку.
Каково же было его разочарование, когда крошечный кулачок разжался и с ладошки ссыпались мелкие монеты, вовсе не похожие на поцелуи.
Не уступавший в коварстве маленькой приятельнице, Грэхем принял чрезвычайно обиженный вид, отошел и бросился на диван, изображая душевные муки. Полли украдкой повернулась на отцовских коленях и смерила молодого человека, который лежал, закрыв лицо ладонями, и глухо стонал, долгим встревоженным взглядом.
– Папа, что с ним? – прошептала девочка.
– Лучше спроси его, Полли.
Грэхем опять издал стон, и девочка испуганно спросила:
– Ему больно?
– Судя по всему, да, – кивнул мистер Хоум.
– Матушка, – слабым голосом произнес юноша, – наверное, придется послать за доктором. О, мой глаз! А вдруг я ослепну?
Не выдержав тяжелых вздохов раненого, Полли подбежала к нему.
– Позвольте, я посмотрю ваш глаз. Я не хотела… Это случайность: пыталась по щеке, да и то не очень сильно.
Ответом ей было глубокое молчание, и личико девочки искривилось.
– Простите, простите ради бога!
Вслед за сбивчивыми невнятными причитаниями последовала вспышка горя: слезы.
– Прекрати издеваться над ребенком, Грэхем, – раздался строгий приказ миссис Бреттон.
– Это все неправда, дорогая! – воскликнул мистер Хоум.
Грэхем тут же вскочил, подхватил девочку и высоко поднял, но она опять его наказала: оттаскала за львиную гриву, приговаривая:
– Самый беспринципный, гадкий и лживый человек на свете!
Утром в день отъезда мистер Хоум долго беседовал с дочерью в оконной нише, и я услышала часть разговора.
– Можно мне поехать с тобой, папа? Я быстро соберу вещи, – серьезно спросила девочка.
Он покачал головой.
– Я тебе помешаю?
– Да, Полли.
– Потому что я маленькая?
– Да, маленькая и хрупкая. Путешествие под силу только взрослым крепким людям. Но не горюй, дочка, не разбивай мое сердце. Папа скоро вернется к своей дорогой Полли.
– Нет-нет, я вовсе не горюю. Совсем нет.
– Полли огорчится, если доставит папе боль, правда?
– Больше чем огорчится.
– Тогда она не должна унывать: ни в коем случае плакать при прощании и не горевать потом, а, напротив, ждать новой встречи и стараться жить счастливо. Она сможет это сделать?
– Постарается.
– Уверен, что так и будет. Значит, до свидания? Пора ехать.
– Сейчас? Прямо сейчас?
– Да, прямо сейчас.
Девочка подняла личико, губы у нее дрожали. Отец всхлипнул, но она, как я заметила, сдержалась. Поставив дочурку на пол, мистер Хоум пожал руки всем остальным и быстро ушел.
Как только хлопнула входная дверь, малышка упала на колени возле стула и горестно воскликнула:
– Папа!
Крик прозвучал низко и протяжно, так, словно в нем заключался вопрос: «Зачем ты покинул меня?» Кажется, за несколько следующих минут Полли пережила агонию: за короткий промежуток детской жизни испытала чувства, которых некоторые вообще не знают. Такова была ее натура: проживи она у нас дольше, подобные испытания повторились бы не раз. Все молчали. Миссис Бреттон уронила пару скупых слезинок, и Грэхем, который в эту минуту сидел за столом и писал, подняв голову, пристально на нее посмотрел. Я, Люси Сноу, хранила спокойствие и наблюдала.
Предоставленное само себе, маленькое существо совершило невозможное: смирилось с нестерпимым горем и через некоторое время сумело его подавить. Ни в этот, ни в следующий день Полина Мэри ни от кого не принимала утешений, став пассивной и безучастной.
На третий вечер, когда, измученная и тихая, девочка сидела на полу, пришел Грэхем и без единого слова ее поднял. Она не сопротивлялась – скорее напротив: отдалась ему в руки, словно устала от одиночества. Когда он сел, малышка прижалась головой к его груди и через несколько минут уснула. Юноша отнес ее в кровать, и меня ничуть не удивило, когда следующим утром, едва проснувшись, Полли спросила:
– Где мистер Грэхем?
Случилось так, что к завтраку он не вышел: надо было срочно выполнить задание к первому уроку – и попросил мать прислать чай в кабинет. Полли вызвалась помочь: ей нужно было что-то делать, за кем-то ухаживать, – и ей доверили эту ответственную миссию – отнести чашку, поскольку даже в волнении девочка была сама аккуратность. Кабинет располагался напротив утренней гостиной, дверь в дверь, и я смогла наблюдать за происходящим.
– Что вы делаете? – спросила Полли, остановившись на пороге.
– Пишу, – ответил Грэхем.
– А почему не идете завтракать вместе со всеми?
– Некогда.
– Хотите, я принесу завтрак сюда?
– Конечно.
– Сейчас.
Она поставила чашку на ковер: так поступают тюремщики, когда приносят заключенным воду, – и удалилась, но тут же вернулась.
– Вы не сказали, какую еду принести к чаю.
– Что-нибудь вкусное, особенное, хорошо, добрая маленькая леди?
Полли отправилась к миссис Бреттон.
– Пожалуйста, мэм, отправьте своему сыну что-нибудь вкусное.
– Выбери сама. Что, по-твоему, ему понравится?
Малышка набрала с тарелок понемногу всего самого лучшего, отнесла, а когда вернулась, шепотом попросила мармелада, которого на столе не оказалось. Получив все, что желал (миссис Бреттон ни в чем не могла отказать сыну), Грэхем принялся громогласно хвалить свою благодетельницу, заявив, что, как только обзаведется собственным домом, непременно назначит ее экономкой, а возможно – если проявит кулинарные способности, – и кухаркой. Поскольку к общему столу Полли не вернулась, я отправилась на поиски и обнаружила, что она завтракает вместе с Грэхемом: стоит рядом и осторожно берет кусочки с его тарелки. Так она попробовала все, кроме мармелада: к нему девочка деликатно отказалась притронуться, думаю, потому, чтобы никто не заподозрил, что он предназначался не только Грэхему. Подобную тонкость чувств Полли проявляла постоянно.
Завязавшаяся таким образом ниточка знакомства не была поспешно оборвана. Напротив, оказалось, что время и обстоятельства скорее укрепили, чем ослабили ее. Несмотря на разницу в возрасте, занятиях и прочих важных особенностях, эти двое всегда находили множество тем для бесед. Что касается Полины, то я заметила, что ее характер полностью раскрывался только в общении с молодым Бреттоном. Привыкнув к дому, с хозяйкой она держалась спокойно и послушно, однако могла целый день просидеть на скамеечке у ног леди: учила уроки, занималась рукоделием или рисовала на грифельной доске, – не проявляя при этом ни единой искры оригинальности, не раскрывая особенностей своего богатого характера. В такие периоды я прекращала наблюдение: девочка не представляла интереса, – однако, едва хлопала входная дверь, возвещая о возвращении Грэхема, все моментально менялось. Полли тут же оказывалась на лестничной площадке и вместо приветствия встречала его упреком или угрозой.
– Вы плохо вытерли ноги о коврик! Смотрите: пожалуюсь вашей маме.
– Ты уже здесь? Маленькая ябеда!
– Да. И вы меня не достанете: я намного выше.
(Девочка заглядывала в просвет между перилами, так как посмотреть сверху не могла.)
– Полли!
– Мой дорогой мальчик! – подражая миссис Бреттон, воскликнула Полли.
– Падаю от усталости, – заявлял Грэхем, прислоняясь к стене и демонстрируя полное изнеможение. – Доктор Дигби (директор школы) буквально завалил заданиями, одно сложнее другого, так что спуститесь-ка и помогите мне отнести наверх книги.
– Ах, вы притворяетесь!
– Ничуть, Полли. Так и есть. Окончательно ослаб. Идите сюда.
– У вас глаза как у кота: вроде бы сонные, но того и гляди прыгнете.
– Прыгну? Ничего подобного: я даже пошевелиться не могу. Спускайтесь.
– Соглашусь, если пообещаете не трогать меня, не поднимать и не кружить.
– Да я просто не способен на такое! – безвольно опускаясь на стул, делано вздохнул Грэхем.
– Тогда положите книги на нижнюю ступеньку и отойдите на три ярда.
После того как приказание было исполнено, Полина осторожно спустилась, не спуская опасливого взгляда с неподвижного юноши. Разумеется, приближение желанной добычи возрождало его к новой безудержной жизни. Неизменно следовала шаловливая возня. Иногда малышка сердилась, случалось – игра заканчивалась мирно, и мы слышали, как она ведет Грэхема наверх, приговаривая:
– А теперь, мой дорогой мальчик, присядьте к столу и подкрепитесь. Наверняка вы проголодались.
Было чрезвычайно забавно наблюдать за Полиной, пока юный Бреттон ел. В отсутствие друга она являла собой пассивную, почти неподвижную фигуру, а с его появлением сразу становилась суетливой, едва ли не назойливой. Мне часто хотелось сказать ей, что надо вести себя спокойнее и сдержаннее, но это было бесполезно – девочка полностью растворялась в Грэхеме: старалась позаботиться, поухаживать, предугадать любое желание. В ее представлении он был повелитель, вроде турецкого султана. Перед ним выставлялись все тарелки, а когда казалось, все, что только можно пожелать, уже стоит на столе, она внезапно вспоминала что-то еще и шепотом обращалась к миссис Бреттон:
– Мэм, может быть, ваш сын захочет кусочек вон того сладкого кекса…
Как правило, крестная не одобряла сладости, считая, что от них один лишь вред, но просьба настойчиво повторялась:
– Всего один маленький кусочек – для мистера Грэхема, ведь он пришел из школы. Девочкам – мне или мисс Сноу – сладости не нужны, а ему не повредят, и он будет рад.
Грэхем не очень любил кексы, но спорить с малышкой не хотел. К его чести, следует отметить, он неизменно пытался разделить угощение с заботливой подругой, однако всякий раз получал отказ. Настаивать означало бы огорчить Полли на весь вечер, и он не решался. Ей хотелось стоять возле его колена, полностью владея вниманием, а не лакомиться сладостями.
С поразительной готовностью девочка приспособилась к интересовавшим старшего друга темам. Казалось, смысл ее существования в том, чтобы раствориться в нем, позабыв о себе. Теперь, когда в силу обстоятельств осталась без отца, девочка научилась жить чувствами и думать мыслями Грэхема. Полли мгновенно запомнила со слов юноши имена всех его школьных товарищей, усвоила их характеры и повадки. Единственного описания оказывалось достаточно. Она никогда не забывала и не путала, кто есть кто, и могла целый вечер обсуждать тех, кого никогда не видела, так, словно ясно представляла их внешность, манеры и положение, а кое-кого даже научилась копировать. Так, один из учителей – молодой Бреттон явно его недолюбливал, – судя по всему, обладал яркими особенностями, которые малышка мгновенно запомнила в его изображении и часто повторяла, к его удовольствию. Впрочем, подобные опыты миссис Бреттон не одобряла и даже запрещала.
Ссорились друзья редко, и все же однажды возник конфликт, в котором чувства Полли жестоко пострадали.
По случаю дня рождения Грэхем пригласил на ужин товарищей – парней своего возраста. Приход одноклассников живо заинтересовал Полину, ведь она часто о них слышала: старший приятель упоминал их в своих рассказах. После ужина молодые джентльмены остались в столовой одни, и вскоре так развеселились и расшумелись, что их шутки были слышны в других помещениях. Случайно проходя по холлу, я обнаружила девочку сидящей на нижней ступеньке лестницы. Взгляд ее был устремлен на отражавшую свет лампы блестящую дверь столовой, а маленький лоб нахмурен в тревожном размышлении.
– О чем задумались, Полли?
– Ни о чем. Просто жалею, что эта дверь не стеклянная и через нее нельзя смотреть. Мальчики веселятся, и мне очень хочется к ним пойти.
– Что же вам мешает?
– Боюсь. Или все-таки попробовать, как вы думаете? Можно постучать и попросить разрешения войти…
Я решила, что, возможно, юноши не станут возражать против ее скромного присутствия, а потому одобрила намерение.
Полли постучала, но, наверное, слишком тихо, чтобы ее услышали, и лишь со второй попытки дверь открылась и появилась голова Грэхема.
– Чего тебе, маленькая обезьянка? – с веселым нетерпением поинтересовался юноша.
– Присоединиться к вам.
– Еще чего! Не хватало мне возиться с тобой и сегодня, в день рождения! Быстро беги к маме или мисс Сноу: пусть кто-то из них уложит тебя спать.
Каштановая грива и разрумянившееся лицо скрылись, дверь громко захлопнулась, оставив Полли с ошеломленным видом.
– Почему он так со мной разговаривал? Никогда еще не был таким грубым, – в отчаянии пробормотала девочка. – Что я сделала не так?
– Ничего, Полли. Просто Грэхем занят с друзьями.
– Значит, он любит их больше, чем меня! Как только они пришли, сразу прогнал!
Я предполагала, что знаю, как можно ее утешить и улучшить ситуацию, применив некоторые из имевшихся в запасе философских изречений, однако при первых же моих словах Полли заткнула уши пальцами и улеглась на коврик лицом вниз. Изменить это ее положение не смогли ни Уоррен, ни кухарка. Пришлось оставить ее в покое до тех пор, пока сама не решит встать.
Тем же вечером Грэхем, как только друзья ушли, обратился к Полли так, словно ничего не произошло, но девочка вырвалась из его объятий с горящими гневом глазами и даже не пожелала доброй ночи. На следующий день он обращался с ней так холодно, что малышка превратилась в кусок мрамора. Еще через день Грэхем заявил, что знает, в чем дело, но губы ее остались плотно сжатыми. Разумеется, сам он не мог по-настоящему сердиться: положение было во всех отношениях неравным. Он пытался успокаивать себя и уговаривать: на что она обиделась, что он сделал не так? Вскоре в ответ полились слезы. Грэхем пожалел малышку, и дружба восстановилась, однако Полли оказалась не из тех, для кого подобное событие могло пройти бесследно. Я заметила, что девочка перестала его искать, преследовать, привлекать к себе внимание. Как-то, когда Грэхем сидел в кабинете, я попросила Полли отнести ему какую-то вещь, но девочка гордо возразила:
– Не хочу его тревожить. Подожду, когда выйдет.
Молодой Бреттон часто катался на своем пони, а Полли неизменно наблюдала в окно за торжественным отъездом и возвращением и мечтала получить позволение сделать хотя бы один круг по двору, но попросить о таком одолжении даже не думала. Однажды девочка спустилась во двор посмотреть, как Грэхем спешивается, и в глазах ее горело столь страстное желание, что юноша беззаботно предложил:
– Не хотите сделать кружок?
Полагаю, тон его показался Полли слишком небрежным, и девочка отвернулась с чрезвычайной холодностью:
– Нет, спасибо.
– Напрасно, – пожал плечами Бреттон. – Уверен, что вам бы понравилось.
– А я так не думаю, – заявила Полли в ответ.
– Неправда. Вы сами признались Люси Сноу, что мечтаете прокатиться.
– Люси Сноу – шплетница, – услышала я слова Полли.
(Единственное, что выдавало ее возраст, – это несовершенная дикция.) С этим девочка отвернулась и скрылась в доме.
Войдя следом, Грэхем обратился к миссис Бреттон:
– Матушка, подозреваю, что эта малышка подослана эльфами: такая странная, – и все же без нее было бы скучно. Она развлекает меня куда больше, чем вы или Люси Сноу.
– Мисс Сноу, – обратилась ко мне Полина (теперь, когда мы оставались вдвоем в комнате, она порой удостаивала меня вниманием), – хотите узнать, в какой из дней недели Грэхем нравится мне больше всего?
– Разве такое возможно? Неужели существует один день из семи, когда он ведет себя не так, как в другие шесть?
– Конечно! Как вы не заметили? Лучше всего он ведет себя в воскресенье: целый день сидит с нами, к тому же спокоен, а вечером даже мил.
Наблюдение нельзя было назвать абсолютно беспочвенным. Воскресное посещение церкви повергало Грэхема в созерцательное настроение, а вечера он обычно посвящал безмятежному, хотя и несколько ленивому отдыху в гостиной, возле камина. Как правило, располагался он на диване и звал к себе Полли.
Следует заметить, что молодой Бреттон несколько отличался от других сверстников. Его интересы не ограничивались двигательной активностью, он проявлял склонность к периодам созерцательности и задумчивости, любил читать, причем выбор книг отнюдь не отличался случайностью: намечались характерные предпочтения и даже инстинктивные проблески вкуса. Действительно, юноша редко рассуждал о прочитанном, однако мне доводилось быть свидетельницей его размышлений.
Полли неизменно сидела рядом, на маленькой скамеечке или на ковре, и разговор начинался тихо – не то чтобы неслышно, но приглушенно, но время от времени до меня доносились голоса. Да, действительно, некое влияние – лучше и благороднее, чем в другие дни недели, – приводило Грэхема в благостное настроение.
– Выучили какие-нибудь новые гимны, Полли?
– Да, один, длиной в четыре строфы. Прочитать?
– Прошу вас, только с выражением. Не торопитесь.
Гимн читался – точнее, наполовину напевался – тоненьким мелодичным голоском. Грэхем хвалил манеру исполнения и преподавал урок декламации. Малышка все ловила на лету, с легкостью запоминала. К тому же ей хотелось порадовать друга. Она оказалась отличной ученицей. После гимна, как правило, следовало чтение – чаще всего главы из Библии. Здесь исправления не требовались, ибо девочка очень хорошо справлялась с несложным повествовательным текстом. А когда сюжет оказывался понятным и вызывал интерес, выразительность и яркость порой поражали. Иосиф, брошенный в яму; призвание Самуила; Даниил в берлоге льва – эти отрывки стали любимыми. В первом из них малышка особенно остро переживала пафос.
– Бедный Иаков! – порой замечала она, горестно скривив губы. – До чего же он любил сына Иосифа! Так же, – добавила однажды, – как я люблю вас, Грэхем. Если бы вы умерли, то я… – Здесь она снова открыла книгу, нашла строчку и прочитала: – «…отказалась бы от утешения и в трауре сошла в вашу могилу».
С этими словами она обняла молодого Бреттона своими маленькими ручками и прижала к груди лохматую голову. Помню, что ее поступок поразил меня своей странной опрометчивостью и пробудил чувство, которое можно испытать, увидев, как неосмотрительно ласкают опасное по природе, но искусственно прирученное животное. Не то чтобы я боялась, что Грэхем оттолкнет ее или причинит боль резким действием, – скорее опасалась такой небрежной, нетерпеливой реакции, которая могла оказаться страшнее удара. В целом, однако, подобные проявления нежности воспринимались пассивно, а порой в глазах льва даже мелькало нечто напоминавшее улыбку и снисходительное удивление. Однажды Грэхем заметил:
– Полли, вы любите меня почти так же, как любила бы младшая сестренка.
– О, это правда. Я вас люблю, – просто согласилась девочка. – Очень люблю.
Привилегия изучения редкого по глубине характера длилась недолго. Не успела Полли прожить в Бреттоне и двух месяцев, как от мистера Хоума пришло письмо, в котором он сообщал, что обосновался на континенте у родственников по материнской линии. В ставшую ненавистной Англию возвращаться он не собирался еще долгие годы и хотел, чтобы дочку немедленно отправили к нему.
– Интересно, как она воспримет новость? – задумчиво проговорила миссис Бреттон, прочитав письмо.
Меня это тоже волновало, и я взялась сообщить о грядущей перемене Полине.
Вернувшись в гостиную, в спокойной красоте которой Полли любила оставаться в одиночестве, я нашла ее сидящей, подобно одалиске, на диване, в тени задернутых штор ближайшего окна. Девочка выглядела счастливой, вокруг были разложены принадлежности для рукоделия: белая деревянная шкатулка, пара лоскутков муслина, несколько кусочков цветных лент, предназначенных для преображения в кукольный наряд. Сама кукла, в ночном чепце и ночной сорочке, лежала рядом, в колыбели. Малышка баюкала ее с видом полной уверенности в способности к пониманию и ко сну, но в то же время рассматривала лежавшую на коленях книжку с картинками.
– Мисс Сноу, – прошептала Полли, – это чудесная книга. Кэндис уснула, так что я могу вам рассказать о том, что прочитала, только очень тихо, чтобы ее не разбудить. Эту книгу дал мне Грэхем. Здесь говорится о разных странах, далеко-далеко от Англии, куда ни один путешественник не сможет добраться, не проплыв по морю тысячи миль. Там живут дикие люди, мисс Сноу, и носят одежду, совсем непохожую на нашу. А некоторые почти совсем ничего не носят, чтобы было прохладнее, потому что у них там всегда очень жарко. На этой картинке тысячи людей собрались в пустынном месте, в покрытой песком долине, вокруг человека в черном. Это добрый-предобрый англичанин-миссионер, который проповедует им под пальмой. – Она показала небольшую цветную гравюру. – А есть картинки более странные, чем эта.
Вот удивительная Великая Китайская стена, а вот китайская леди с ногами меньше, чем у меня. Вот дикая татарская лошадь, а здесь показано самое удивительное: земля изо льда и снега, без зеленых полей, лесов или садов. Там даже нашли кости мамонтов. Сейчас уже живых мамонтов не бывает. Вы не знаете, что такое мамонт, но могу рассказать, потому что Грэхем все мне объяснил. Это огромное, высотой с гостиную и длиной с холл, похожее на гоблина существо. Но Грэхем думает, что оно было добрым и не ело других животных. Даже если бы я встретила мамонта в лесу, он бы меня не убил… ну разве что случайно наступил бы на меня среди кустов, как я могу нечаянно раздавить в поле кузнечика.
Она продолжала рассуждать в том же духе, пока я не перебила:
– Полли, а вам не хотелось бы отправиться в путешествие?
(У девочки порой страдала и грамматика.)
– Пока нет, – благоразумно ответила девочка. – Лучше лет через двадцать, когда стану взрослой, такой же высокой, как миссис Бреттон, и смогу путешествовать вместе с Грэхемом. Мы собираемся поехать в Швейцарию и подняться на Монблан, а еще отправимся на корабле в Южную Америку и там заберемся на самую высокую гору.
– А если бы с вами был папа, хотели бы путешествовать сейчас?
Ответ прозвучал после долгой паузы и продемонстрировал одно из свойственных девочке внезапных изменений настроения:
– Зачем говорить такие глупости? Почему вы упомянули папу? Что он вам? Я только почувствовала себя наконец счастливой и научилась не очень много о нем думать, и вот все опять начинается!
Губы ее задрожали, и я поспешила сообщить о получении письма с указаниями, чтобы они с Харриет немедленно воссоединились с любимым папой.
– Разве вы не рады, Полли?
Девочка выронила книгу и, перестав качать куклу, устремила на меня серьезный и печальный взгляд.
– Неужели вам не хочется увидеть папу?
– Конечно, хочется, – резко произнесла девочка.
Таким тоном она обычно разговаривала только со мной. Для каждого в этом доме у нее был свой тон.
Я молча ждала продолжения, но нет: больше не прозвучало ни слова. Полли поспешила к миссис Бреттон, чтобы услышать подтверждение новости. Значительность известия на весь день повергла ее в подавленное состояние духа. Вечером, как только снизу донеслись звуки возвращения Грэхема, малышка тотчас оказалась возле меня и начала заботливо поправлять на моей шее ленточку, вынимать и снова вставлять в волосы гребень. Когда Грэхем вошел, она продолжала изображать чрезвычайную занятость, но тем не менее прошептала на ухо:
– Скажите ему как-нибудь, что я уезжаю.
Я сообщила новость во время чая, однако случилось так, что как раз в эту минуту Грэхем о чем-то размышлял, и пришлось повторить фразу, прежде чем смысл сказанного проник в его сознание, но и тогда молодой человек отметил событие лишь мимолетно.
– Полли от нас уезжает? Какая жалость! Милая мышка, мне будет жаль с ней расстаться. Надеюсь, она приедет к нам еще.
Поспешно проглотив чай, Грэхем тут же завладел свечкой, разложил тетради на маленьком столе и с головой погрузился в домашнее задание.
«Милая мышка» подползла к нему, устроилась на ковре возле ног, лицом вниз, и лежала в безмолвной неподвижности до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. В какой-то момент я заметила, как, не подозревая о ее присутствии, Грэхем случайно ее оттолкнул, Полли безропотно отползла на пару футов, однако уже через минуту маленькая ладошка показалась из-под лица, к которому прижималась, и нежно погладила его ступню. Когда няня позвала спать, девочка поднялась, тихо пожелала всем доброй ночи и послушно вышла.
Не могу сказать, что час спустя я боялась войти в спальню, однако с беспокойством подозревала, что вряд ли застану дитя мирно спящим. И, как оказалось, не ошиблась. Малышку я нашла – замерзшую, сна ни в одном глазу – сидящей на краю кровати подобно белой птичке. Трудно было придумать, как ее успокоить, поскольку обращаться с ней, как с другими детьми, не представлялось возможным. Когда я закрыла дверь и поставила свечу на туалетный стол, Полли повернулась ко мне и пожаловалась:
– Не могу… не могу спать, а еще не могу… жить!
Я спросила, что ее беспокоит.
– Ужжасное не-ща-стье! – проговорила она, совсем по-детски шепелявя.
– Позвать миссис Бреттон?
– Что за глупость! – возмутилась Полли, вернувшись к предназначенному мне тону.
Да я и сама понимала, что, едва заслышав шаги миссис Бреттон, она тут же спрячется под одеяло и затихнет, как испуганная птичка. Щедро обрушивая всю эксцентричность своего характера на меня, к кому не проявляла даже подобия симпатии, Полли никогда не раскрывалась перед моей крестной матушкой, оставаясь не больше чем умненькой, послушной, хотя и немного странной маленькой леди. Я внимательно на нее посмотрела: щеки пылали, в широко распахнутых глазах застыла болезненная тревога. Оставить ее в таком состоянии до утра было невозможно, и я догадалась, что следует предпринять.
– Хотите еще раз пожелать Грэхему спокойной ночи? Он еще не ушел в свою комнату.
Полли тут же протянула ко мне руки, я ее подняла и, закутав в шаль, понесла обратно в гостиную, откуда как раз выходил Грэхем.
– Полли не может уснуть, не увидев вас на прощание и не поговорив. Расставание ее очень огорчает.
– Я избаловал ее, – заметил юноша добродушно и, подхватив у меня малышку, поцеловал горящее личико и дрожащие губы. – Полли, вы, похоже, любите меня больше, чем своего папу…
– Да, люблю, а вот вы меня ни капельки, – послышался в ответ горестный шепот.
Получив заверения в обратном, малышка была возвращена мне, и я отнесла ее в спальню – увы, по-прежнему в печали.
Когда мне показалось, что она способна слушать, я заговорила:
– Полина, не надо горевать из-за того, что Грэхем не любит вас так же, как любите его вы, потому что это нормально.
Полные слез глаза в недоумении уставились на меня.
– Дело в том, что он взрослый мальчик, ему уже шестнадцать лет, а вы всего лишь маленькая девочка. У него сильный веселый характер, а у вас совсем другой.
– Но ведь я так его люблю! Он же должен тоже любить меня… хотя бы чуть-чуть.
– Он и любит, даже обожает. Вы ему дороги.
– Я дорога Грэхему? Вы говорите правду?
– Конечно. Вы ему дороже любого другого ребенка.
Это успокоило малышку, и сквозь слезы мелькнула улыбка.
– Но только, – продолжила я, – не приставайте к нему и не ожидайте слишком многого, не то он сочтет вас назойливой, и тогда все будет кончено.
– Кончено! – эхом повторила Полли. – Тогда я буду хорошей. Очень постараюсь стать хорошей, Люси Сноу.
Я уложила малышку в кровать, а когда раздевалась, она спросила:
– А в этот раз он меня простит?
Я заверила, что непременно простит, что пока его ничто не раздражает, но в будущем надо вести себя осторожнее.
– Будущего нет, – возразила Полли. – Я ведь уезжаю и вряд ли увижу его когда-нибудь… снова, после того как покину Англию.
Я постаралась как можно убедительнее ей возразить и задула свечу. С полчаса в комнате было тихо: казалось, Полли уснула, – но внезапно маленькая белая фигурка поднялась на постели и тонкий голосок спросил:
– Вам нравится Грэхем, мисс Сноу?
– Нравится? Ну, может, немного…
– Всего немного? Вы что же, не любите его так, как я?
– Думаю, нет. Так, как вы, нет.
– Но он ведь нравится вам?
– Я же сказала: немного. У него полно недостатков, поэтому я не могу любить его всей душой.
– Правда?
– Как у всех мальчиков.
– Больше, чем у девочек?
– Вполне вероятно. Впрочем, совершенных людей вообще нет. А что касается любви и нелюбви, то следует приветливо держаться со всеми, но никому не поклоняться.
– Как вы?
– Стараюсь. Давайте-ка спать.
– Не могу. Как заснуть, если болит вот здесь? – Полли положила крохотную, как у эльфа, ладошку себе на грудь. – При мысли о том, что придется покинуть Грэхема, что мой дом не здесь, разрывается сердце.
– Право, Полли, вам не следует так страдать: ведь очень скоро вы поедете к папе. Разве вы уже забыли его? Больше не хотите быть его маленькой помощницей?
Последовало глухое молчание, и я посоветовала:
– Давайте ложитесь и постарайтесь заснуть.
– Кровать очень холодная. Никак не могу согреться.
Малышка действительно так дрожала, что стучали зубы.
– Идите ко мне, – позвала я, хотя и мало верила, что она согласится, поскольку это странное капризное существо держалось со мной непредсказуемо.
Но Полли приняла предложение и тут же, подобно маленькому привидению, скользнула по ковру. Она нервно дрожала, и я обняла ее, чтобы согреть. Успокоившись, девочка наконец задремала, а я, в призрачном лунном свете разглядывая заплаканное личико и осторожно вытирая платком мокрые глаза и щеки, подумала: как она выдержит испытания, которые уготованы ей в жизни? Как справится с ударами судьбы и невзгодами, унижениями и лишениями?
На следующий день Полина Мэри Хоум уехала – полная самообладания, хотя и дрожала как осиновый листок.
Глава IV
Мисс Марчмонт
Спустя несколько недель покинула Бреттон и я, но без мыслей, что больше никогда туда не вернусь, не пройду по спокойным старинным улицам. Я отправилась домой, где не была полгода. Можно предположить, что возвращение в лоно семьи будет радостным и счастливым. Что ж, приятное предположение вреда не принесет, а потому может остаться без возражений. Действительно, ничего не отрицая, позволю читателю на следующие восемь лет представить меня парусником, дремлющим в море в безветренную погоду. Водная гладь неподвижна как стекло, а капитан распростерся на палубе, подняв лицо к небесам и закрыв глаза, если угодно – погруженный в долгую молитву. Считается нормальным, что очень многие представительницы слабого пола проводят жизнь в подобном состоянии. Так почему я должна отличаться от остальных?
Представьте меня праздной, изнеженной и счастливой, удобно расположившейся на устеленной подушками, согретой ласковыми солнечными лучами, овеваемой мягким ленивым ветерком палубе. Однако нельзя отрицать, что в таком безмятежном состоянии ничего не стоит случайно упасть за борт. К тому же в любой момент может налететь шторм и отправить корабль ко дну. Я вспоминаю время, причем довольно продолжительное, наполненное холодом, опасностью и страхом. До сих пор в минуты ночных кошмаров чувствую в горле соленую воду морских волн, ощущаю их безжалостное ледяное давление. Точно знаю, что шторм длился не один час и даже не один день. Много дней и ночей на небе не появлялось ни звезд, ни робких лучей солнца. Собственными руками мы снимали со своего корабля такелаж; тяжелая буря настигла нас, отняв всякую надежду на спасение. В конце концов корабль затонул, а команда погибла.
Насколько помню, я никому не жаловалась на невзгоды. Да и кому могла пожаловаться? Миссис Бреттон давно исчезла из поля зрения: воздвигнутые недоброжелателями препятствия прервали наше общение, – к тому же время принесло испытания не только мне, но и ей. Солидное состояние, которое она хранила для сына, было в значительной мере инвестировано в какое-то совместное предприятие, в результате чего сократилось до малой доли изначального капитала. Дошли слухи, что Грэхем поступил на работу, вместе с матерью покинул Бреттон и, судя по всему, обосновался в Лондоне. Таким образом, надеяться мне было не на кого, оставалось рассчитывать только на собственные силы. Сознаю, что не обладала уверенной, деятельной натурой: уверенность и деятельность были навязаны мне обстоятельствами, так же как и тысячам других девушек, – так что, когда жившая неподалеку незамужняя леди по имени мисс Марчмонт послала за мной, я отозвалась на зов в надежде получить работу по силам.
Мисс Марчмонт располагала значительным состоянием и жила в большом красивом доме, однако вот уже двадцать лет страдала жестоким ревматизмом, превратившим ее в слабое, беспомощное создание. Она неизменно проводила время наверху, где гостиная соседствовала со спальней. Я не раз слышала о мисс Марчмонт и о ее странностях (она слыла особой крайне эксцентричной), однако до сих пор ни разу с ней не встречалась. И вот увидела седую морщинистую женщину, печальную от одиночества, мрачную от долгой болезни, раздражительную и, наверное, придирчивую. Выяснилось, что горничная или, скорее, компаньонка, которая ухаживала за ней в течение нескольких лет, собралась замуж, вот леди и решила, услышав о моем бедственном положении, что я смогу занять освободившееся место. Предложение поступило после чая, когда мы вдвоем сидели у камина.
– Легкой жизни не обещаю, – искренне предупредила мисс Марчмонт. – Мне требуется много внимания, так что придется постоянно находиться рядом. И все же возможно, что по сравнению с тем существованием, которое вы ведете в последнее время, условия покажутся терпимыми.
Я задумалась. Разумеется, условия должны были показаться терпимыми, но почему-то, по какой-то странной фатальности, таковыми не выглядели. Жить в этой душной комнате, служить постоянной свидетельницей страданий, а порой, возможно, и мишенью для вспышек раздражения, провести здесь остаток своей юности, в то время как прежняя ее часть прошла по меньшей мере не в блаженстве… На миг сердце упало, но вскоре воскресло: хоть я и заставила себя отчетливо представить грядущие невзгоды, думаю, была слишком прозаична, чтобы их идеализировать, а следовательно, преувеличивать.
– Не уверена, что хватит сил справиться с обязанностями, – пролепетала я.
– Это меня и беспокоит, – заметила она. – Выглядите вы изможденной.
Так и было. В зеркале я видела бледный, с ввалившимися глазами призрак в траурном платье. И все же изнуренный образ меня не пугал: истощение оставалось чисто внешним. Я по-прежнему ощущала жизненную силу.
– У вас есть другие предложения?
– Пока ничего определенного. Но, возможно, со временем что-нибудь найдется.
– Так вам кажется. Что же, в таком случае не станем спешить. Поищите более приемлемые варианты, а если ничего не получится, приходите. Предложение останется в силе в течение трех месяцев.
Заключение звучало великодушно. Я сказала об этом и поблагодарила. А пока говорила, у мисс Марчмонт начался приступ ревматизма. Я принялась помогать, послушно следуя указаниям, так что к тому моменту, когда наконец наступило облегчение, между нами уже возникла своего рода близость. Увидев, как мисс Марчмонт выносила боль, я пришла к выводу, что женщина она терпеливая к физическим страданиям, сильная, хотя порой, возможно, слишком вспыльчивая в случаях длительного умственного дискомфорта. Она же оценила мою готовность помочь и поверила, что может рассчитывать на симпатию и сострадание (это она уже успела заметить). На следующий день мисс Марчмонт вновь за мной послала, и потом еще дней пять-шесть подряд требовала моего общества. Более близкое знакомство неизбежно выявило недостатки характера и проявления эксцентричности, но в то же время представило достойную уважения личность. Несмотря на суровость, порой граничившую с угрюмостью, я могла ухаживать за ней и проводить время в ее обществе с тем спокойствием, которое неизменно благословляет нас, когда мы понимаем, что наши манеры, присутствие, общение поддерживают и утешают человека, которому приходится служить. Даже когда госпожа выражала недовольство (что время от времени случалось, причем в довольно грубой форме), происходило это не унизительно и не оставляло в душе заноз. Ее недовольство проявлялось, как у вспыльчивой матери к дочери, а не как у хозяйки к служанке. Но даже если она и выходила из себя, подолгу сердиться не умела. К тому же разум не покидал ее даже в минуты гнева: логика присутствовала всегда. Вскоре растущая привязанность представила жизнь в доме мисс Марчмонт в роли компаньонки в совершенно новом свете, и через неделю я согласилась остаться.
Таким образом, мир мой ограничился двумя душными тесными комнатами, а измученная, изуродованная болезнью старуха стала не только госпожой, но и подругой. Служба ей теперь мой долг; ее боль – мое страдание; ее облегчение – моя надежда, гнев – мое наказание; ее расположение – моя награда. Я забыла, что за пределами этого душного мира простираются поля и луга, шумят леса, несут свои воды в моря реки, а над головой простирается бескрайнее, постоянно меняющееся небо. Я почти согласилась забыть настоящую жизнь. Все внутри меня смирилось с печальной участью. По воле судьбы привыкнув к послушанию и пассивности, я не требовала прогулок на свежем воздухе; аппетит мой не нуждался в чем-то большем, чем крохотные трапезы старой больной женщины. Вдобавок ее оригинальный характер давал богатый материал для наблюдения. Устойчивость добродетелей и сила страстей вызывали восхищение; истинность чувств рождала доверие. Всеми этими достоинствами мисс Марчмонт обладала в полной мере, и потому я к ней привязалась.
За эти качества я согласилась бы протянуть рядом с ней еще двадцать лет, если бы столько продлилась полная страданий жизнь, но судьба распорядилась иначе, решив, очевидно, подтолкнуть меня к активным действиям, побудить, заставить проявить энергию. Тому крохотному кусочку человеческой близости, который я ценила, словно драгоценную жемчужину, предстояло раствориться в пальцах и вытечь подобно растаявшему комку снега. Моя умиротворенная совесть потеряла даже эту с готовностью воспринятую маленькую обязанность. Я хотела заключить сделку с судьбой: избежать крупных страданий, смирившись с жизнью, полной лишений и маленьких обид. Однако судьба оказалась не настолько сговорчивой, а Провидение не допустило уклончивой праздности и трусливой вялости.
Одной февральской ночью – хорошо это помню – возле дома мисс Марчмонт прозвучал голос, слышный всем обитателям, но понятный лишь одному. Я уложила госпожу в постель, а сама устроилась возле камина с рукоделием. За окном выл ветер. Стенания продолжались весь день, но к ночи приобрели новый характер – звук стал пронзительным, резким, почти членораздельным, страдальческим, жалобным, безутешным в каждом порыве.
«О, тише, тише!» – мысленно воскликнула я, выронила работу и напрасно попыталась заткнуть уши, чтобы не слышать этого тревожного, скорбного крика. Прежде мне уже доводилось сталкиваться с подобным голосом, а вынужденное наблюдение заставило сделать вывод относительно его значения. Уже трижды в жизни события доказывали, что странный аккорд в буре – этот горестный, беспокойный крик – обещал, что совсем скоро атмосфера станет невыносимой для человеческого существования. Так, эпидемии часто предвещались бурным, жалобным, рыдающим, мучительным восточным ветром. Не сомневаюсь, что именно в нем берет начало легенда о банши – привидении, чьи завывания под окнами дома предвещают его обитателям неминуемую смерть. Кроме того, мне казалось, что я заметила – хотя и не обладала достаточной склонностью к философии, чтобы понять, действительно ли существует связь между явлениями, – что часто в то же время поступают сообщения о вулканической активности в далеких краях; о внезапно вышедших из берегов реках; о странных приливах, неожиданно затопляющих низкие земли. «В такие периоды, – сказала я себе, – природа оказывается в хаосе и смятении. Самые слабые среди нас чахнут в ее беспорядочном дыхании, попадая в жар огнедышащих вулканов».
Я слушала и дрожала от страха, а мисс Марчмонт спала.
Около полуночи буря утихла и за полчаса установилась мертвенная тишина. Погасший было огонь в камине вновь весело разгорелся. Я ощутила, как изменился, посвежел воздух, и, приоткрыв ставни и шторы, выглянула наружу. На черном бархате неба сияли звезды.
Почувствовав на себе взгляд, я отвернулась от окна.
– Хорошая ночь? – спросила живо, подняв голову с подушки и пристально глядя на меня мисс Марчмонт.
Я утвердительно кивнула, и она продолжила:
– Так я и думала, потому что чувствую себя полной сил. Молодой, беззаботной и счастливой. Что, если болезнь вдруг отступит? Это будет настоящее чудо!
Меня очень удивили ее слова: какие уж тут чудеса? – а она попросила меня помочь ей сесть и начала рассказывать о прошлом, с невероятной ясностью вспоминая события, места и людей.
– Сегодня я особенно дорожу своей памятью, как лучшим другом. В такие минуты она дарит мне глубокую радость: возвращает сердцу счастливое прошлое – не пустые идеи, а настоящие, реальные сущности, которые я давно считала сгнившими, разложившимися, смешанными с могильной землей. Сейчас я владею часами, мыслями, надеждами молодости, заново переживаю любовь своей жизни – единственную любовь и почти единственную привязанность. Ведь я не очень хороший человек, не слишком дружелюбный. И все же у меня тоже были чувства, яркие и богатые. И эти чувства сосредоточились на объекте, который в своей единичности был дорог мне, как большинству мужчин и женщин дороги бесчисленные мелочи, в которые они направляют свое расположение. Как чудесно я жила любящей и любимой! Какой великолепный год возвращается ко мне в ярких воспоминаниях: вдохновляющая весна, теплое радостное лето, мягкий лунный свет, озарявший осенние вечера, сила надежды под сковавшим воды льдом и покрывшим поля снегом зимы! В тот далекий год сердце мое билось в унисон с сердцем Фрэнка. О, мой благородный, преданный, добрый Фрэнк! Он был настолько лучше меня! Его суждения обо всем на свете несравнимо превосходили мои собственные! Теперь я это ясно вижу и могу сказать: если другие женщин страдали так же, как страдала я, потеряв любимого, то едва ли они испытывали такое же счастье в любви. Эта любовь была намного чище и благороднее обычной: я не сомневалась ни в нем, ни в его чувстве. Эта любовь охраняла, защищала и возвышала не меньше, чем радовала ту, которой была посвящена. Позвольте спросить сейчас, когда разум мой так странно ясен, позвольте задуматься: почему же у меня ее отняли? За какое преступление после двенадцати месяцев блаженства я была обречена на тридцать лет скорби?
Монолог утомил ее, и некоторое время она молчала, а потом продолжила:
– Не знаю, не могу понять причину жестокого лишения. И все же в этот час хочу искренне сказать то, что ни разу не решалась произнести прежде: великий Боже, да исполнится воля твоя! – еще попросить: пусть смерть воссоединит меня с Фрэнком. До сих пор я в это не верила, но сейчас знаю, что такое возможно.
– Значит, он умер? – тихо спросила я.
– Ах, моя дорогая… – вздохнула мисс Марчмонт. – Это случилось в Рождественский сочельник. Я нарядилась для своего жениха, который в скором времени должен был стать мужем, и села к окну его дожидаться. Снова ясно представляю, как всматриваюсь в снежные сумерки за окном, чтобы не пропустить, как он поедет по белой аллее. Вижу и чувствую мягкий теплый свет камина, отблески которого играют на шелковом платье и смело рисуют в зеркале стройную юную фигуру. Вижу, как полная, ясная, холодная луна плывет над чернильной массой кустов и деревьев, серебрит землю старинного сада. Я ждала с горячим нетерпением в крови, но без сомнения в груди. Огонь в камине иссяк, но остался лежать яркой массой углей; луна поднялась высоко, но по-прежнему заглядывала в окно; стрелки приближались к десяти – он редко задерживался до этого часа, но все же пару раз приезжал поздно.
Неужели он не сдержит слово? Нет, ни за что и никогда! И вот он появился – мчится так, словно от того, успеет ли, зависела его жизнь. «Фрэнк! Неистовый всадник! – мысленно воскликнула я, с радостью, но и с тревогой прислушиваясь к приближавшемуся галопу. – Вот получишь нагоняй! Ведь рискуешь не только своей, но и моей шеей: то, что принадлежит тебе, мне особенно близко и дорого!» И вот он показался: я уже видела его, – но, наверное, в глазах уже стояли слезы и туманили взгляд: я различала коня, слышала стук копыт – по крайней мере, так мне казалось. Но конь ли это? Что за странное существо медленно влачилось по двору – темное, тяжелое? Как назвать то, что предстало передо мной в лунном свете? И как выразить родившееся в душе чувство?
Я поспешила на крыльцо. Огромное животное – это действительно был черный конь Фрэнка – стояло перед дверью, дрожа, фыркая, тяжело дыша, и за уздцы его держал человек (Фрэнк, как показалось мне в темноте).
«Что случилось?» – спросила я и в ответ услышала резкий голос Томаса, собственного слуги: «Идите в дом, мадам».
Потом Томас строго окликнул выбежавшую из кухни служанку и приказным тоном потребовал отвести меня в дом, но я уже упала на колени возле того, что лежало на снегу, а до того безвольно волочилось по земле, того, что издало судорожный вздох и тяжкий стон у моей груди, когда я подняла и прижала его к себе. Он был еще жив и даже, кажется, в сознании. Я не подчинилась попыткам разлучить нас и приказала отнести его в дом. Со мной хотели обойтись как с ребенком, но я мыслила достаточно ясно, чтобы повелевать не только собой, но и другими. Уступила я лишь доктору, а когда тот сделал все, что мог, осталась одна с умирающим Фрэнком. Он нашел силы обнять меня и даже назвал по имени, услышав, как я молилась над ним, почувствовав, как нежно его люблю.
Последнее дыхание он адресовал мне: «Мария, умираю в раю», – а когда заря возвестила утро Рождества, мой Фрэнк уже был у Бога.
Мисс Марчмонт издала тяжелый вздох и продолжила:
– Все это произошло тридцать лет назад, и с тех пор я страдаю, но сомневаюсь, что сумела наилучшим образом использовать ниспосланное несчастье. Мягкие, добрые натуры обратились бы к святости; сильные, гневливые личности превратились бы в демонов; я же лишь стала сраженной горем старой эгоисткой.
– Вы совершили немало добрых дел, – возразила я, поскольку знала, что госпожа хорошо известна щедрой благотворительностью.
– Хотите сказать, что не жалела денег, когда они могли облегчить чью-то печаль? Что из того? Мне это ничего не стоило: не доставляло ни усилий, ни боли, ни радости. Полагаю, однако, что с этого дня вступлю в новое, лучшее состояние духа: начну готовиться к встрече с Фрэнком. Видите? До сих пор думаю о Фрэнке больше, чем о Боге. Если на небесах не учтут, что эта горячая, долгая и преданная любовь по крайней мере не привела к богохульству, мои шансы на спасение ничтожны. Что вы думаете об этом, Люси? Станьте моим исповедником и скажите.
На столь сложный вопрос я не смогла ответить: не нашла нужных слов, – однако ей, похоже, показалось, что ответ прозвучал.
– Совершенно верно, дитя мое. Мы должны признать милость Господню, хотя и не всегда ее понимаем. Должны принять собственную долю, какой бы она ни оказалась, и постараться облегчить долю других. Разве не так? Поэтому завтра же попытаюсь сделать что-нибудь хорошее для вас, Люси: может быть, после моей смерти это обернется добром. Ох, что-то голова разболелась от долгого разговора, но все равно я чувствую себя почти счастливой. Давайте-ка спать: часы уже пробили два. Это я в силу своего эгоизма вынуждаю вас сидеть. Все, ступайте, не беспокойтесь обо мне: мне нужно хорошо отдохнуть.
Она умолкла и закрыла глаза, словно погружаясь в сон. Я тоже устроилась в своем алькове. Ночь прошла спокойно. Ее судьба свершилась тихо, мирно и безболезненно. Утром я нашла мисс Марчмонт безжизненной, уже холодной, но спокойной и безмятежной. Недавнее возбуждение духа и изменение настроения было предвестием инсульта. Единственного удара оказалось достаточно, чтобы прервать давно истрепанную болезнью нить существования.
Глава V
Переворачивая страницу
Оставшись в одиночестве после смерти госпожи, я была вынуждена искать себе новое место. Возможно, в это время нервы мои немного – надеюсь, что немного, – расшатались. Знаю, что вряд ли выглядела хорошо, скорее напротив: худая, бледная, изможденная, с ввалившимися покрасневшими глазами – как вечно недосыпающая, замученная непосильной работой служанка или обремененная долгами скиталица. Однако долгов у меня не было, да и нищета пока не грозила. Хоть госпожа и не успела меня облагодетельствовать, как пообещала в последнюю ночь, все же жалованье после похорон было исправно выплачено ее дальним кузеном и наследником. Этот джентльмен с длинным носом и узким лбом выглядел как скряга и, как я услышала впоследствии, действительно проявлял редкую скупость, став полной противоположностью щедрой мисс Марчмонт и ее памяти, по сей день благословляемой всеми нищими и нуждающимися в округе. Обладательница пятнадцати фунтов, ослабленного, но все же не совсем подорванного здоровья и такого же духа, по сравнению со многими соотечественниками я занимала почти завидное положение, но и оно оказалось затруднительным, что я и ощутила в определенный день, ровно через неделю, после которого мне предстояло оставить нынешнее жилище, не имея понятия, где искать следующее.
В растерянности я решила припасть к последнему и единственному благотворному источнику и отправилась спросить совета у старой служанки нашей семьи, когда-то моей няни, а ныне экономки в богатом доме неподалеку от особняка мисс Марчмонт. За те несколько часов, что провела у нее, я обрела утешение, но не получила ответа на главный вопрос, потому что ответа она не знала. По-прежнему оставаясь во мраке неизвестности и растерянности, в сумерках я покинула свою добрую наперсницу. Надвигалась ясная морозная ночь, а мне предстояло пройти две мили. Несмотря на бесприютность, бедность и сомнения, сердце мое, наполненное и вдохновленное энергией юности, еще не достигшей двадцати трех лет, билось легко и отнюдь не вяло. Уверена, что не вяло, иначе я трепетала бы от страха во время одинокого пути, проходившего по одним лишь молчаливым полям, не встречая ни деревни, ни фермы, ни сельского дома; дрожала бы от отсутствия лунного света, поскольку узкую тропинку озаряли лишь звезды. Еще больший страх вызвало бы странное присутствие того удивительного мерцания, что той ночью переливалось на небе, – подвижного чуда северного полярного сияния. Однако это грандиозное явление воздействовало на меня вовсе не мгновенным испугом. Казалось, оно подарило новую энергию. Я черпала волю в холодном свежем ветре, когда моему сознанию свыше была внушена дерзкая мысль: «Оставь эту пустыню и иди дальше», – а сознанию хватило сил, чтобы ее принять, только спросить: «Куда?»
Мне не потребовалось вглядываться в даль. Обернувшись на сельский приход среди плодородной равнины центральной Англии, я мысленно увидела неподалеку то, чего никогда не видела на самом деле: Лондон.
На следующий день я вернулась в богатый особняк, опять попросила разрешения встретиться с экономкой и посвятила ее в свой план.
Миссис Баррет – женщина серьезная, рассудительная, – хоть и знала о мире не многим больше меня, все же не сочла, что я сошла с ума. Видимо, моя уравновешенность неизменно служила мне так же исправно и надежно, как сшитый из грубой серой ткани плащ с капюшоном. Именно благодаря внушающему доверие внешнему спокойствию мне удавалось не просто безнаказанно, но и с одобрения окружающих совершать поступки, которые при взволнованной и неуверенной манере наверняка принесли бы мне репутацию фанатичной мечтательницы.
Очищая апельсины для мармелада, экономка размеренно излагала возможные трудности, когда мимо окна пробежал ребенок и через мгновение, шумно ворвавшись в комнату, со смехом устремился ко мне. А поскольку мы с ним были знакомы, и с его матушкой, замужней дочерью хозяев дома, я посадила мальчика на колени.
Несмотря на нынешнюю разницу в социальном положении, мы с молодой леди вместе учились в школе, когда я была десятилетней девочкой, а она – очаровательной особой шестнадцати лет. Училась она на класс младше моего и способностями не отличалась.
Миссис Ли вошла в тот самый момент, когда я восхищалась чудесными темными глазами ее сына. До чего же красивой и обаятельной стала добродушная, милая, но не обладавшая сильным умом девушка! Замужество и материнство счастливо изменили ее, как меняли и многих других, подававших еще более скромные надежды. Меня она не узнала. Я тоже изменилась, хотя, боюсь, не в лучшую сторону, поэтому не попыталась напомнить о себе. Зачем? Она зашла забрать сына на прогулку, а следом появилась няня с младенцем на руках. Упоминаю мимолетную встречу лишь потому, что, обращаясь к няне, миссис Ли заговорила по-французски (очень плохо, надо заметить, с безнадежно дурным произношением, чем снова заставила вспомнить школьные годы). Так я поняла, что в доме служит иностранка. Очаровательный малыш тоже лопотал по-французски, причем довольно бойко. Когда компания удалилась, миссис Баррет заметила, что молодая леди привезла заграничную няню два года назад, вернувшись из путешествия на континент. Обращались с ней почти так же уважительно, как с гувернанткой, а в обязанности вменили лишь прогулки с младенцем и беседы по-французски с мастером Чарлзом.
– Она сказала, что в европейских семьях много англичанок, устроенных ничуть не хуже, – заключила миссис Баррет.
Я аккуратно сохранила случайный клочок информации, как рачительные хозяйки хранят ненужные на первый взгляд тряпочки и веревочки, для которых бережливый ум предвидит полезное применение. Прежде чем я покинула свою добрую советчицу, она дала адрес почтенной старомодной гостиницы в Сити, где, по ее словам, в былые дни часто останавливались мои дядюшки.
Поездка в Лондон не сулила особого риска и требовала меньше смелости, чем может показаться читателю. Дело в том, что до столицы было всего пятьдесят миль. Денег на то, чтобы доехать, прожить несколько дней и вернуться, если не возникнет желания остаться в городе, хватало. Я рассматривала путешествие скорее как короткие, не лишенные приятности каникулы, чем приключение на грани жизни и смерти. Нет ничего полезнее умеренной оценки собственных действий: она позволяет сохранять спокойствие ума и тела, в то время как высокопарные понятия вгоняют и то и другое в лихорадку.
В те дни дорога в пятьдесят миль занимала целый день (я говорю об ушедших временах: волосы мои, до недавних пор противостоявшие морозу времени, теперь уже лежат белыми волнами под белым чепцом, как снег под снегом), так что в Лондон я приехала дождливым февральским вечером, около девяти часов.
Знаю, что читатель не обрадуется многословному изложению первых поэтических впечатлений. Это хорошо, поскольку для таковых я не располагала ни временем, ни настроением, попав темным сырым мрачным вечером в Вавилон, обширность и странность которого потребовали крайнего напряжения разума и самообладания. К счастью, природа щедро наделила меня этими качествами вместо других, более блестящих достоинств.
Когда я вышла из дилижанса, странная речь возниц и прочих стоявших вокруг людей показалась чуждой и непонятной, словно иностранный язык. Ни разу еще не доводилось мне слышать родного английского, звучавшего столь необычно, и все же удалось объясниться и договориться настолько, чтобы вместе с саквояжем благополучно добраться до старинной гостиницы, адрес которой был аккуратно записан. Каким трудным, каким тягостным, каким невразумительным оказался этот опыт! Впервые в Лондоне; впервые в гостинице; уставшая с дороги; потерянная в темноте; парализованная холодом; лишенная опыта и совета, как действовать, и все же обязанная действовать.
Я доверила ситуацию здравому смыслу, но тот пребывал в таком же озябшем и озадаченном состоянии, как и прочие качества, и конвульсивно исполнял свои функции лишь под напором неотвратимой необходимости. В этом состоянии здравый смысл заплатил портье, и, учитывая столь тягостное положение, я не виню его в том, что не заметил бессовестного обмана. Затем он же попросил проводить в комнату и робко вызвал горничную, но главное, когда та пришла, сумел внушить мне холодный, высокомерный стиль поведения, достойный истинной леди.
Вспоминаю, что бойкая горничная являла собой образец городской миловидности и живости. Все в ней: талия, чепчик, платье – казалось таким изящным, что я спросила себя, каким образом это достигнуто. Ее городской акцент своей жеманной свободой словно порицал мой провинциальный выговор, а кокетливый наряд демонстрировал легкое презрение к моей простой деревенской одежде. Но здесь уж, увы, ничего не поделаешь: остается лишь смириться. Ну ничего, будет время научиться.
Сохраняя спокойствие и сдержанность в общении с дерзкой горничной, а впоследствии и с похожим на пастора официантом в черном сюртуке и белом шейном платке, постепенно я добилась от них вежливости. Полагаю, поначалу оба решили, что я служанка, однако вскоре изменили мнение и с похвальной осторожностью избрали покровительственно-любезную манеру.
Я изо всех сил держала себя в руках до тех пор, пока не подкрепилась, не согрелась у камина и не заперлась в своей комнате, но как только опустила голову на подушку, сразу ощутила глубокое уныние. Положение мое предстало в виде жуткого призрака – безысходное, одинокое, почти лишенное надежды. Зачем я оказалась в огромном Лондоне? Что буду делать утром? Что ждет меня в жизни? Есть ли вообще друзья на белом свете? Откуда я явилась и куда пойду дальше?
Поток слез намочил подушку, омыл волосы и руки. Рыдания сменились темным периодом мрачных размышлений, но я не пожалела об отчаянном поступке и не захотела вернуться. Сильное, хотя и смутное, убеждение, что лучше идти вперед, что я могу продолжить путь, что тропа – пусть узкая и кремнистая – со временем выведет на широкую дорогу, одержало верх над остальными чувствами. Его влияние приглушило сомнения до такой степени, что в конце концов я почти успокоилась, смогла помолиться и приготовиться ко сну, но не успела погасить свечу и лечь, как ночь прорезал глубокий, низкий, мощный звук. Поначалу я его не узнала, но звук повторился двенадцать раз и вместе с колоссальным протяжным двенадцатым ударом я поняла, что лежу в тени собора Святого Павла.
Глава VI
Лондон
Утро возвестило своим приходом первый день марта. Проснувшись, я встала и, отдернув штору, увидела, как сквозь туман пробивается солнце. Над моей головой, над крышами домов, почти вровень с облаками возвышался величественный торжественный купол, синий и расплывчатый. Собор. Пока я смотрела, сердце ожило, дух начал расправлять постоянно спутанные крылья. Внезапно возникло чувство, что наконец-то я попробую жизнь на вкус. Тем утром вера моя выросла, как дерево Ионы[2], и, быстро, но тщательно одеваясь, я подумала, что приехать в Лондон было правильно. Воздух великого города дарит силы и уверенность в себе. Кто, кроме труса, согласится провести всю жизнь в деревне и навсегда обречь данные природой способности на ржавчину забвения?
Воодушевившись новыми мыслями, я больше не чувствовала себя уставшей с дороги и изможденной, и спустилась в столовую аккуратной и свежей. Когда официант принес завтрак, мне удалось говорить с ним спокойно, но жизнерадостно. Мы побеседовали минут десять, и этого времени хватило, чтобы завязать полезное знакомство.
Это был седой пожилой человек и, судя по всему, служил здесь уже лет двадцать. Я подумала, что он должен помнить двух моих дядюшек – Чарлза и Уилмонта. Пятнадцать лет назад они часто останавливались в этой гостинице. Едва я упомянула дорогие имена, как он вспомнил обоих сразу и с почтением. Благодаря семейным связям положение мое в его глазах прояснилось и упрочилось, к тому же он заметил, что я похожа на дядю Чарлза. Полагаю, так и есть, поскольку миссис Баррет не раз говорила мне то же самое. Отныне его отстраненность уступила место услужливой любезности, так что можно было не сомневаться в достойном ответе на разумный вопрос.
Окно моей маленькой гостиной выходило на узкую, тихую, чистую улицу. Прохожие появлялись здесь так же редко, как в провинциальных городках. Ничто не вызывало опасений, и я не сомневалась, что могу отважиться выйти на улицу одна.
После завтрака я отправилась на прогулку. Сердце наполнилось вдохновением и радостью, как перед увлекательным приключением. Вскоре я оказалась в известном, классическом месте: на Патерностер-роу, – вошла в принадлежавший некоему мистеру Джонсу книжный магазин и купила маленькую книжку (роскошь, которую вряд ли могла себе позволить), чтобы в знак благодарности отправить ее в подарок миссис Баррет. За прилавком стоял сам мистер Джонс – сухой деловой джентльмен.
То утро я провела необычайно плодотворно. Оказавшись перед собором Святого Павла, вошла и поднялась в купол, откуда взору открылся весь Лондон с рекой, мостами и церквями. Как на ладони простиралось передо мной древнее Вестминстерское аббатство, освещенные солнцем зеленые сады Темпла, отделенное от земли легкой дымкой сияющее голубое небо ранней весны.
Спустившись, пошла туда, куда в легком экстазе свободы и радости случайно повели ноги, и каким-то удивительным образом попала в гущу городской жизни, на Стрэнд, и наконец-то увидела и почувствовала Лондон. Поднявшись по Корнхилл, оживленной улице, я даже отважилась перейти дорогу. Совершенный в одиночку, этот подвиг доставил пусть и неразумное, но глубокое удовольствие. Позже я увидела Уэст-Энд, парки, прекрасные площади, но все равно больше всего полюбила Сити, где сосредоточен серьезный бизнес, который суета и шум не скрывают, а воплощают в звуках и картинах. Сити зарабатывает на жизнь, в то время как Уэст-Энд наслаждается радостями жизни. Если Уэст-Энд развлекает, то Сити глубоко волнует и возбуждает.
Наконец, устав и проголодавшись (уже несколько лет не испытывала такого здорового голода), около двух часов дня я вернулась в свою темную старую тихую гостиницу и с аппетитом съела отбивную с тушеными овощами. И то и другое оказалось отменным: намного лучше тех крохотных кусочков непонятно чего, которые кухарка мисс Марчмонт подавала доброй покойной госпоже, а заодно и мне. О них даже вспоминать не хотелось! Восхитительно уставшая, я прилегла на три составленных стула (дивана в комнате не было) и провалилась в сон, а проснувшись, два часа провела в раздумье.
Настроение, направление мысли, да и все сопутствующие обстоятельства, благоприятствовали новому, решительному и смелому – возможно, даже отчаянному – образу действий. Терять было нечего. Невыразимое отвращение к прошлому существованию исключало возвращение в родные края. Если не удастся преуспеть в задуманном, кто, кроме меня, пострадает? Если умру вдали от (хотелось сказать «дома», но дома у меня не было) Англии, кто заплачет?
Я умела страдать и терпеть. Привыкла к страданиям. Сама смерть не внушала мне такого ужаса, как взращенным в неге богачам. Я всегда смотрела на смерть спокойно. Мысленно подготовившись к любым последствиям, составила план действий.
В тот же вечер новый друг, официант, снабдил меня сведениями о судах, отправляющихся в континентальный порт Бу-Марин. Выяснилось, что время терять нельзя, ибо следовало безотлагательно подняться на палубу. Можно было бы дождаться утра, но существовала опасность опоздать.
– Лучше займите койку сегодня же, – посоветовал официант.
Я согласилась, оплатила счет и отблагодарила благожелателя суммой, которую теперь сама считаю королевской. Он же, видимо, счел ее абсурдной, ибо, спрятав деньги в карман, усмехнулся, выражая мнение о здравомыслии дарительницы, и отправился вызывать экипаж. Затем, отрекомендовав меня вознице, дал указание отвезти на пристань, но не оставлять среди матросов. Тот пообещал, однако слова не сдержал, а, напротив, принес меня в жертву, подал как ростбиф, высадив прямо среди не ведавших приличий моряков.
Наступил кризис. Уже стемнело. Выполнив свою миссию, возница тут же уехал, а матросы вступили в борьбу за меня и мой саквояж. Их крики я слышу даже сейчас: они потрясли мою скромную философию больше, чем сумрак, одиночество или странность обстановки. Когда один положил руку на саквояж, я отнеслась к этому спокойно, но когда другой коснулся меня, возмутилась, стряхнула его ладонь и сразу шагнула в лодку, строго и твердо приказав поставить саквояж рядом, что и было немедленно исполнено, поскольку хозяин выбранной лодки сразу превратился в союзника и поспешно отчалил от берега.
Вода казалась черной, как поток чернил, и в ней отражались огни строений на берегу и качающихся на волнах судов. Меня подвезли к выстроившимся в ряд кораблям, и при свете фонаря удалось прочитать их начертанные белой краской на темном фоне названия: «Океан», «Феникс», «Консорт», «Дельфин», – однако моего, который назывался «Стремительный», не было: очевидно, стоял дальше.
Мы продолжили путь в темноте, и мне почему-то подумалось о Хароне, перевозящем одинокие души через Стикс в страну теней. Сидя в утлой лодчонке под дождем, ощущая на лице порывы холодного ветра, с двумя грубыми гребцами в качестве спутников, чьи крики по сей день оскорбляют мой слух, я спросила себя, испытываю ли ужас или отчаяние, и ответила, что не чувствую ни того ни другого, хотя в жизни, случалось, пугалась в куда более безопасных ситуациях.
Как такое возможно? Почему вместо уныния и беспомощности я испытываю воодушевление и бодрую бдительность? Бог есть…
Наконец из темноты показался «Стремительный» – белый и сияющий.
– Вы на месте! – провозгласил матрос и немедленно потребовал шесть шиллингов.
– Слишком много, – возразила я.
Он отгреб от корабля и заявил, что не выпустит, пока не заплачу. С борта за происходящим наблюдал молодой человек – как впоследствии выяснилось, стюард – и улыбался в предвкушении грядущей битвы. Чтобы разочаровать его, я не стала спорить и заплатила. Трижды в тот день отдавала кроны там, где хватило бы нескольких шиллингов, успокаивая себя мыслью, что такова цена опыта.
– Они вас обманули! – ликующе провозгласил стюард, стоило мне подняться на борт.
Ограничившись флегматичным «знаю», я поспешила вниз.
В женской каюте меня встретила полная, статная, эффектная особа, но в ответ на просьбу показать койку окинула суровым взглядом и пробормотала, что, как правило, в такое время пассажиры на борт не поднимаются, и вообще не выразила намерения держаться любезно. Как странно: лицо такое хорошенькое и в то же время надменное!
– Не отправляться же мне обратно, – возразила я. – Так что вам все-таки придется показать мою койку.
Не скрывая недовольства, она наконец указала на свободное место, я сняла шляпу, сложила вещи и легла. Первые трудности были преодолены, небольшая победа одержана. Бездомный, одинокий, блуждающий ум получил время для короткого отдыха. Пока «Стремительный» не войдет в гавань, как мне казалось, можно просто лежать… О господи! Как же я заблуждалась! За всю ночь я не сомкнула глаз и к утру – измученная, раздраженная – пребывала в состоянии, близком к трансу.
Дело в том, что стюардесса что-то не поделила со своим сыном – тем самым молодым стюардом, – и он то и дело входил и выходил, бесцеремонно хлопая дверью. Эти двое спорили, ругались, ссорились и мирились. В то же время она писала письмо домой – вроде бы отцу – и, не обращая на меня никакого внимания (возможно, полагала, что я крепко сплю) читала вслух отрывки. Некоторые из этих пассажей содержали семейные секреты и касались какой-то Шарлотты – младшей сестры, которая, как явствовало из послания, готовилась вступить в романтический и неразумный брак. Леди громко протестовала против предосудительного союза. Почтительный сын с презрением осмеял переписку матери, а та в ответ набросилась на него с бранью. Пара выглядела странной. Стюардессе было лет тридцать девять – сорок. Полная сил, цветущая, словно двадцатилетняя девушка, она производила впечатление особы жесткой, самодовольной и вульгарной, ум и тело которой отличались бесстыдством и несокрушимостью. Думаю, что с детства ей пришлось жить в общественных заведениях, а в юности, скорее всего, она работала официанткой в какой-нибудь забегаловке.
Ближе к утру разговор перешел на новую тему. Стюардесса принялась рассуждать о неких Уотсонах: хорошо знакомых ей и высокочтимых благодаря своей щедрости пассажирах, – которые, как она с гордостью заявила, пересекая пролив, всякий раз одаривают ее небольшим состоянием.
На заре вся команда корабля пришла в движение, а с восходом солнца на борт начали подниматься пассажиры. Уотсонов стюардесса встретила едва ли не с распростертыми объятиями. Их было четверо: двое мужчин и две дамы. Следом за ними появилась молодая леди, которую провожал джентльмен благородной, хотя и вялой наружности.
Уотсоны, несомненно, располагали значительным состоянием, о чем свидетельствовали их манеры. Дамы – обе молодые, привлекательные, а одна и вовсе красавица – были одеты дорого, модно и до нелепости несоответствующе обстановке. Шляпки с яркими цветами, бархатные накидки и шелковые платья больше подошли бы для променада в парке, чем для сырой палубы пакетбота. Мужчины: низкорослые, толстые, некрасивые и вульгарные – представляли собой столь яркий контраст с дамами, что вызывали улыбку. Тот, что постарше, и вовсе выглядел отталкивающе: неприятный, с огромным животом. Как скоро выяснилось, это был то ли муж, то ли жених. Открытие привело меня в изумление, а потом, когда заметила, что, вместо того чтобы пребывать в тоске от такого союза, леди веселилась едва ли не до головокружения, и вовсе в недоумение. «Должно быть, за громким смехом она скрывает безумное отчаяние», – подумалось мне, но в ту самую минуту, когда эта мысль посетила вялое сознание, она игриво подошла ко мне (я тихо и уединенно стояла возле борта), совершенной незнакомке, со складной скамеечкой в руках и с улыбкой поразительной, пугающе легкомысленной, хотя и продемонстрировавшей великолепные зубы, предложила воспользоваться удобным приспособлением. Я отказалась – разумеется, со всей возможной вежливостью, – и она так же легко и беззаботно удалилась, оставив меня гадать, что заставило ее, столь жизнерадостную и добродушную, связать судьбу с таким человеком.
Леди, которую провожал джентльмен, белокурая и хорошенькая, в простом ситцевом платье, соломенной шляпке без украшений и грациозно накинутой на плечи большой шали выглядела совсем девочкой. Я заметила, что, прежде чем покинуть подопечную, провожатый окинул пассажиров оценивающим взглядом, словно решал, можно ли оставить ее в такой компании. От дам в ярких шляпках он тут же с нескрываемым разочарованием отвернулся, потом взглянул на меня и что-то сказал девушке (дочери, племяннице или кем там она ему доводилась). Леди тоже посмотрела в мою сторону и слегка изогнула в усмешке короткую очаровательную губку. Трудно сказать, что именно спровоцировало столь презрительное выражение: моя внешность или скромное траурное одеяние, – но, скорее всего, и то и другое. Пробил колокол. Джентльмен (впоследствии я узнала, что это был ее отец) покинул борт, и корабль отправился в путь.
Иностранцы говорят, что только английские девушки способны путешествовать в одиночку, и не перестают удивляться беспечности их родителей и опекунов. Отвагу этих молодых особ некоторые называют мужеподобной и неприемлемой, а их самих считают пассивными жертвами образовательно-теологической системы, безрассудно пренебрегающей должным «надзором». Относилась ли эта конкретная молодая леди к таковым, до поры до времени я не знала, однако вскоре выяснилось, что пребывание в одиночестве не в ее вкусе. Пару раз она прошлась туда-сюда по палубе, с легким презрением посмотрела на порхающих в шелках и бархате дам, а также на танцующих вокруг них медведей, и в конце концов подошла ко мне.
– Вам нравится путешествовать морем?
На ее бесхитростный вопрос я ответила, что впервые на корабле и пока не поняла.
– Ах, какая прелесть! – воскликнула незнакомка. – Завидую вам: свежие впечатления так приятны! Теперь, когда у меня их так много, совсем забыла первые. Давно пресытилась и морем, и всем прочим.
Я не сдержала улыбки, и она искренне возмутилась:
– Вам смешно? Но почему?
– Потому что вы слишком молоды, чтобы чем-то пресытиться.
– Мне уже семнадцать, – чуть обиженно возразила особа.
– А на вид не больше пятнадцати. Любите путешествовать без сопровождающих?
– Еще не хватало! Да я уже раз десять пересекала пролив одна. Впрочем, не совсем: стараюсь находить компанию.
– Вряд ли на сей раз удастся, – кивком указала я на Уотсонов, которые громко смеялись и вообще создавали на палубе чрезвычайно много шума.
– Только не с этими отвратительными мужчинами и женщинами, – заметила девушка брезгливо. – Таким нужно путешествовать третьим классом. Вы едете в школу?
– Нет.
– А куда?
– Понятия не имею. Знаю только, что в порт Бу-Марин.
Она, казалось, удивилась, но тут же беззаботно продолжила:
– А я в школу. О, я так много иностранных школ уже сменила, но все равно осталась полной невеждой. Ничего не знаю. Совсем ничего, уверяю вас. Правда, очень хорошо играю на фортепиано и танцую, неплохо говорю по-немецки и по-французски, но читаю и пишу хуже. Представляете, однажды меня попросили перевести на английский язык страницу из какой-то немецкой брошюрки, и я не смогла. Папа страшно расстроился и сказал, что месье Бассомпьер – мой крестный отец и опекун, который оплачивает учебу, – выбросил деньги на ветер. Должна признаться, в таких предметах, как история, география, арифметика, и им подобных я сущий младенец. И еще я ужасно слаба и в грамматике, и в правописании на английском, вдобавок совсем забыла свою религию. Считаюсь протестанткой, но вовсе не уверена, что таковой являюсь. Не понимаю разницы между католичеством и протестантством, но нисколько не переживаю по этому поводу. Когда-то была лютеранкой в Бонне – милом Бонне, очаровательном Бонне, где так много красивых студентов. У каждой симпатичной девочки из нашей школы был поклонник. Они знали, когда у нас заканчивались уроки, и почти ежедневно провожали по бульвару. «Schönes Mädchen!»[3] – неслось нам вслед. Я была так счастлива в Бонне!
– А где вы учитесь сейчас? – поинтересовалась я.
– Ну, в этом…
Должна пояснить, что мисс Джиневра Фэншо (именно так звали молодую леди) использовала местоимение «это» в качестве временной замены настоящего названия. Такова была ее привычка: «это» появлялось на каждом повороте разговора в роли удобного синонима недостающего слова в любом языке, на котором ей приходилось общаться. Эту полезную привычку она переняла у француженок. Как выяснилось, в этот раз короткое словечко «это» заменило не что иное, как сам город Виллет – великолепную столицу великолепного королевства Лабаскур.
– Вам нравится Виллет? – спросила я.
– Довольно милый город. Местные жители ужасно глупы и вульгарны, однако есть приятные английские семьи.
– Учитесь в школе?
– Да.
– В хорошей?
– О нет! Школа отвратительная, но каждое воскресенье ухожу и совершенно забываю о maîtresses, professeurs, élèves[4] и посылаю уроки au diable[5]. – Конечно, по-английски вряд ли кто-то осмелится выразиться столь откровенно, но по-французски высказывание прозвучало вполне нормально.
– А потому живу чудесно. Опять надо мной смеетесь?
– Нет. Просто улыбаюсь собственным мыслям.
– И о чем же думаете? – спросила собеседница, но тут же, не дожидаясь ответа, потребовала: – Нет, лучше скажите, куда едете.
– Куда приведет судьба: надо как-то зарабатывать на жизнь.
– Зарабатывать! – потрясенно воскликнула она. – Значит, вы бедны?
– Как Иов[6].
– Ах как неприятно! – заметила юная особа после короткого молчания. – Но я понимаю, что такое быть бедным: мои родные тоже небогаты – папа, мама, все. Папа – капитан Фэншо, офицер, – получает половину жалованья, однако имеет благородное происхождение, так что некоторые наши родственные связи очень значительны. Но помогает нам только мой дядюшка и крестный месье Бассомпьер, который живет во Франции. Он оплачивает обучение девочек – у меня пять сестер и три брата, – чтобы все мы могли удачно выйти замуж. Полагаю, это значит – за старых состоятельных джентльменов, как моя старшая сестра Августа, у которой муж намного старше папы. Она очень красива – не то что я: темноволосая, яркая. Ее муж, мистер Дэвис, переболел в Индии желтой лихорадкой и стал такого же цвета, как гинея, зато богат: у Августы есть собственный экипаж, слуги. Мы все считаем, что она прекрасно устроена. Во всяком случае, это намного лучше, чем самой зарабатывать на жизнь, как вы сказали. Кстати, вы считаете себя умной?
– Нет, скорее нет.
– Умеете играть, петь, знаете иностранные языки?
– Нет-нет, ничего такого!
– И все же я думаю, что вы умны, – подавив зевок, заметила мисс Фэншо. – У вас, кстати, бывает морская болезнь?
– Не знаю. А что это такое?
– О, это ужасное состояние, и я так страдаю! Без нее ни разу не обошлось. Вот и сейчас уже чувствую ее приближение. Пойду вниз и ни за что не стану просить о помощи эту мерзкую толстую стюардессу. Heureusement je sais faire aller mon monde[7].
Мисс Фэншо удалилась. Вскоре за ней последовали и другие пассажиры, и весь день я оставалась на палубе одна. Когда вспоминаю спокойное, даже счастливое состояние этих часов и в то же время думаю об опасном – некоторые сказали бы, безнадежном – положении, в котором оказалась волей судьбы, чувствую, что поистине
- Не в четырех стенах – тюрьма,
- Не в кандалах неволя.[8]
Опасности, одиночество, неясное будущее не кажутся тягостным злом, пока есть здоровье, силы и способности, особенно если свобода подставляет крепкие крылья, а надежда освещает путь яркой звездой.
Мне стало плохо значительно позже, чем мы миновали Маргит, так что я успела вдохнуть свежий ветер, насладиться вздымающимися водами пролива, полетом морских птиц, белизной далеких парусов, мирным, хотя и облачным, низко нависшим небом. В мечтах европейский континент представлялся далекой сказочной страной. Солнце освещало его, превращая длинную береговую линию в золотую полосу. Сияющий образ украшал старинный городок с белоснежной башней, зеленые леса, острые горные вершины, мягкие пастбища и полноводные потоки. Фоном служило торжественное синее небо, а на нем волшебной королевской милостью с севера на юг протянулся согнутый Богом лук – арка надежды.
Если желаете, читатель, уберите все это – но лучше оставьте и снабдите мудрой моралью, начертав ее красивым крупным почерком: «Мечты не что иное, как искушение и обман».
Ощутив тяжкий приступ морской болезни, я побрела вниз, в каюту.
Койка мисс Фэншо оказалась рядом с моей. Должна с сожалением признаться, что во время нашего общего мучения соседка то и дело терзала меня своим безжалостным эгоизмом. Трудно представить пациентку более беспокойную и требовательную. По сравнению с ней Уотсоны, которым тоже было плохо и за которыми стюардесса ухаживала с бесстыдной пристрастностью, казались настоящими стоиками. С тех пор я не раз замечала, что особы легкого, беззаботного темперамента и белокурой хрупкой красоты в стиле мисс Фэншо отличаются полной неспособностью терпеть страдания. В неблагоприятной обстановке они мгновенно прокисают, как слабое пиво во время грозы. Мужчина, который отважиться взять в жены подобную особу, обязан гарантировать ей безмятежное солнечное существование. Возмутившись наконец докучливой сварливостью Джиневры, я лаконично попросила перестать ныть. Отпор пошел на пользу, причем – что весьма отрадно – симпатия ее ко мне ничуть не уменьшилась.
С наступлением ночи море разыгралось не на шутку: теперь уже о борт бились тяжелые волны. Странно было представлять вокруг лишь тьму и черную воду, чувствуя при этом, что корабль настойчиво продолжает свой непроторенный путь, упорно преодолевая шум, накатывающиеся валы и поднимающийся шторм. Мебель начала падать, и пришлось ее привязывать. Пассажирам стало еще хуже. Мисс Фэншо со стоном заявила, что умирает.
– Только не сейчас, дорогая, – заметила стюардесса. – Потерпите немного, уже входим в порт.
И действительно, еще через четверть часа наступило спокойствие, а около полуночи путешествие закончилось.
Я жалела. Да, жалела. Время отдыха иссякло, а трудности – неизбежные, неисчислимые трудности – снова стали реальностью. Стоило выйти на палубу, как холодный воздух и кромешная ночная тьма словно решили наказать за своеволие мечты: светившиеся вокруг чуждой гавани огни чуждого портового городка встретили враждебно, словно неисчислимые коварные взгляды. Веселая компания поднялась на борт, чтобы встретить Уотсонов, целое дружное семейство окружило и увлекло мисс Фэншо, и только я… Но нет, ни на миг не осмелилась я задуматься и сравнить себя с ними.
И все же надо было где-то переночевать. Суровая необходимость не оставляла выбора. Заплатив стюардессе – причем она явно удивилась, получив на пару монет больше, чем грубый расчет оценивал мою состоятельность, – я попросила:
– Будьте добры, подскажите какую-нибудь тихую респектабельную гостиницу.
Она не только дала нужные указания, но и позвала носильщика, чтобы проводил (вещей у меня не было – мой саквояж уже отправился на таможню).
Я последовала за этим человеком по грубо вымощенной, освещенной лишь неверным мерцанием луны улице, и носильщик привел в гостиницу. Я предложила шестипенсовик, однако он отказался взять. Полагая, что его не устроила сумма, я заменила монету шиллингом, однако и его он отклонил, что-то резко буркнув на незнакомом языке. В освещенный холл вышел портье и на ломаном английском пояснил, что здесь иностранные деньги хождения не имеют. Я дала ему соверен для обмена и, уладив эту проблему, попросила комнату. Ужинать из-за морской болезни, волнения и слабости я не могла и, когда наконец за мной закрылась дверь крошечной комнаты, несказанно обрадовалась – опять появилась возможность отдохнуть, хотя наутро облако сомнений осталось таким же плотным и густым, необходимость приложения немыслимых усилий еще больше обострилась, опасность нищеты приблизилась, а борьба за существование ожесточилась.
Глава VII
Виллет
Утром я проснулась с обновленной отвагой и освеженным сознанием. Физическое недомогание больше не ослабляло разум; мысль работала ясно и четко.
Едва успев одеться, я услышала стук в дверь и, ожидая увидеть горничную, пригласила:
– Войдите.
Однако на пороге появился сурового вида мужчина и с грубым акцентом безапелляционно потребовал:
– Дайте ваш ключ, мисс.
– Зачем? – удивилась я.
– Дайте! – повторил он раздраженно и, почти выхватив из руки ключ, добавил: – Хорошо! Скоро принесу чемодан.
К счастью, ничего страшного не произошло: это оказался таможенный служащий. Где позавтракать, я не знала, но все же отправилась вниз и, к своему удивлению, обнаружила то, на что вчера от усталости не обратила внимания: оказывается, я поселилась в большом отеле. Я медленно спускалась по широкой лестнице и, останавливаясь на каждой ступеньке, поскольку торопиться было некуда, рассматривала высокий потолок, картины на стенах, большие окна, наполнявшие пространство светом, причудливо расчерченный прожилками мрамор, по которому ступала, хотя и не покрытый ковром и не очень чистый. Невольно сопоставляя увиденное с предоставленной мне комнатой – с крайней скромностью ее обстановки, – я впала в философское настроение и удивилась прозорливости персонала в размещении гостя в соответствии с его положением. Как могли корабельные и гостиничные служащие с первого взгляда определить, что я не имею никакой общественной значимости и не обременена капиталом, а значит, полное ничтожество? Факт казался любопытным и чреватым дурными последствиями: я не скрыла от самой себя, что именно он означал, однако попыталась устоять под его давлением и сохранить присутствие духа.
Спустившись наконец в просторный, залитый естественным светом холл, я интуитивно направилась в помещение, оказавшееся кофейной комнатой. Не стану отрицать, что вошла с некоторой дрожью и, не представляя, как держаться, сразу почувствовала себя одинокой, неуверенной и жалкой. С обреченным спокойствием фаталиста я села за маленький стол, и официант вскоре принес завтрак. Подозревая, что все делаю неверно, за еду я принялась в настроении, вовсе не способствующем пищеварению. За другими столами тоже завтракали, но почему-то одни мужчины. Я почувствовала бы себя намного увереннее, если бы увидела женщин, однако их не было. Впрочем, судя по всему, никто не посчитал это странностью: кое-кто из джентльменов окинул меня беглым взглядом, но ни один не проявил бесцеремонность. Полагаю, если что-то во мне и показалось эксцентричным, объяснение сосредоточилось в одном долетевшем до меня слове: anglaise[9].
После завтрака нужно было куда-то двигаться. Но в каком направлении? «Отправляйся в Виллет», – посоветовал внутренний голос, основываясь, без сомнения, на небрежно брошенных на прощание легкомысленных фразах мисс Фэншо: «Было бы хорошо, если бы вы поступили работать к мадам Бек: у нее есть малыши, за которыми нужно присматривать. А еще ей требуется гувернантка (во всяком случае, требовалась два месяца назад)».
Кто такая эта мадам Бек и где ее искать, я понятия не имела, потому что ответа на свой вопрос не получила: друзья так торопили мисс Фэншо, что она оставила его без внимания. Решив, что живет таинственная мадам, скорее всего, в Виллете, я поехала туда. Расстояние от портового городка составляло сорок миль. Я понимала, что хватаюсь за соломинку, однако в том омуте, где оказалась, схватилась бы даже за ряску. Разузнав, как добраться до Виллета, и заплатив за место в дилижансе, отправилась в призрачную даль. Прежде чем осудить безрассудство поступка, читатель, оглянитесь туда, где я начала путь; представьте пустыню, которую покинула, вспомните, какой малостью рисковала. В моем поединке с судьбой нельзя было проиграть, хотя выигрыш казался почти невероятным.
Решительно отрицаю обладание творческим темпераментом, и все же, должно быть, не лишена некой способности получать максимальное удовольствие, когда обстоятельства соответствуют моему вкусу. Я наслаждалась тем днем, несмотря на то что ехали мы медленно, было холодно, шел дождь, а путь лежал по голой, плоской, лишенной деревьев равнине. Вдоль дороги, подобно вялым змеям, ползли илистые каналы. Скучно подстриженные ивы обрамляли ровные, похожие на огороды поля. Даже небо выглядело монотонно-серым; атмосфера казалась влажной и лишенной воздуха. И все же среди мертвенного окружения сердце мое нежилось в солнечных лучах. Чувства эти, однако, ограничивались тайным, но упорным сознанием тревоги, караулившей удовольствие подобно тому, как подстерегает добычу тигр. В ушах неумолчно звучало дыхание хищника; его яростное сердце билось рядом с моим; зверь не шевелился в убежище, однако я ощущала его присутствие, зная, что он дожидается лишь заката, чтобы выскочить из засады и наброситься на жертву.
Я надеялась приехать в Виллет засветло и тем самым избежать глубокой растерянности, в которую темнота погружает того, кто впервые оказывается в незнакомом месте, однако из-за медленного движения, долгих остановок, густого тумана и мелкого, но упорного дождя уже к тому времени, когда мы достигли предместий, на город опустилась плотная тьма.
Знаю, что дилижанс проехал сквозь охраняемые часовыми ворота: это я увидела при свете фонарей, – затем, миновав топкий участок, покатился по каменистой мостовой. Возле конторы лошади остановились, кондуктор что-то объявил, и пассажиры сошли. Первым делом следовало получить саквояж – дело ничтожное, но важное. Я поняла, что лучше не проявлять явного нетерпения и настойчивости, а спокойно ждать, наблюдая за разгрузкой другого багажа, пока не увижу своего, чтобы быстро его забрать. Поэтому встала в стороне и сосредоточила взгляд на той части экипажа, где при погрузке заметила свой маленький чемодан под грудой других вещей, которые сейчас постепенно переходили в руки хозяев.
Я была уверена, что вот-вот увижу свой саквояж, однако его не было. Перед отправлением я привязала карточку со своим именем и пунктом назначения зеленой лентой, чтобы заметить ее с первого взгляда, однако сейчас ничего зеленого не было. Весь багаж был уже снят – каждая коробка, каждый сверток. Клеенка была поднята, и я ясно видела, что не осталось ни единого зонта или плаща, ни единой трости и шляпной коробки.
Но где же мой саквояж со скудной одеждой и маленьким бумажником, хранившим остатки пятнадцати фунтов?
Я задаю этот вопрос сейчас, но не могла задать его тогда. Не могла сказать ровным счетом ничего, не владея ни единой французской фразой. А весь мир вокруг невнятно бормотал по-французски и только по-французски. Что оставалось делать? Подойдя к кондуктору, я просто положила ладонь на его рукав, показала на какой-то чемодан, потом на крышу дилижанса и постаралась выразить вопрос глазами. Неправильно меня поняв, кондуктор схватил чужой багаж и собрался его погрузить.
– Не трогайте, будьте добры, – произнес мужской голос на хорошем английском, но тут же исправился, перейдя на местное наречие: – Qu’est-ce que vous faîtes donc? Cette malle est à moi![10]
Я же, услышав родную речь, возликовала и, обернувшись, обратилась к незнакомцу, в растерянности даже не заметив, как тот выглядит:
– Сэр, я не говорю по-французски. Не могли бы вы спросить этого человека, куда делся мой саквояж?
Не обращая внимания, к какому лицу поднимаю глаза, я ощутила в его выражении удивление и сомнение в уместности вмешательства.
– Спросите, и я в долгу не останусь, – взмолилась я.
Не знаю, как воспринял мои слова незнакомец, но произнес тоном джентльмена (то есть не грубо и не оскорбительно):
– Как выглядел ваш багаж?
Я описала, не забыв зеленую ленту, после чего мужчина взял кондуктора под руку и, как я поняла сквозь поток французской речи, прочесал вдоль и поперек. Наконец повернулся ко мне:
– Этот умник говорит, что был перегружен, и ему пришлось снять ваш саквояж сразу, как только его положили. Он остался в Бу-Марин вместе с некоторыми другими вещами. Обещал завтра же его сюда отправить, так что послезавтра сможете забрать в конторе.
– Спасибо, – поблагодарила я, окончательно расстроившись.
Что же теперь делать? Возможно, английский джентльмен заметил, как изменилось мое лицо, поэтому участливо спросил:
– У вас есть в городе друзья?
– Нет. И куда идти, я не знаю.
Наступила короткая пауза, я наконец взглянула на собеседника и в свете фонаря увидела молодого привлекательного мужчину, по моим понятиям – лорда, хотя природа могла создать его и принцем. Лицо показалось мне благородным: уверенным, но не дерзким, мужественным, но не властным. Я отвернулась, поскольку надежды на помощь от такого небожителя не могло быть.
– В саквояже остались все ваши деньги? – уточнил джентльмен, удержав меня за руку.
– Нет, слава богу, – с огромной радостью ответила я. – В кошельке достаточно монет, чтобы дотянуть до послезавтра в какой-нибудь дешевой гостинице. Но я впервые в городе и ничего здесь не знаю.
– Могу дать адрес вполне подходящей гостиницы, – предложил незнакомец. – Это недалеко, так что легко найдете.
Он вырвал из записной книжки листок, начертал несколько слов и отдал мне. Я подумала, что прекрасный принц невероятно добр, а что касается недоверия к нему самому, его совету или адресу, то с тем же успехом можно было бы скептически отнестись к Библии. Лицо джентльмена выражало участие, а глаза светились благородством, когда он пояснил:
– Кратчайший путь лежит по бульвару и через парк, однако сейчас уже поздно и темно, так что я вас немного провожу.
Он тронулся в путь, а я последовала за ним сквозь тьму и мелкий пронизывающий дождик. Бульвар оказался пустынным, с мокрой грязной аллеей и низко склонившимися деревьями, с которых капала вода, а парк встретил кромешной тьмой. В двойном мраке деревьев и тумана я не видела своего проводника, а лишь слышала его поступь, однако не испытывала ни тени страха. Думаю, могла бы следовать за ним ночью до самого края земли.
– Ну вот, – заговорил джентльмен, когда парк закончился. – Теперь идите по этой широкой улице, пока не увидите ступени: их освещают два фонаря. Спуститесь по ним на другую, узкую улицу и в конце ее найдете свою гостиницу. Там говорят по-английски. Можно считать, что ваши затруднения закончились. Доброй ночи.
– Доброй ночи, сэр, – ответила я. – Примите мою искреннюю благодарность.
Мы расстались.
Воспоминание о лице этого человека, освещенном сочувствием к одиночеству, о его голосе, выдававшем рыцарственную по отношению к нужде и слабости натуру, равно как воспоминание о его молодости и красоте, долго согревало мое сердце. Незнакомец оказался истинным английским джентльменом.
Я пошла в указанном направлении мимо великолепных домов, больше похожих то ли на дворцы, то ли на соборы. Когда шла по галерее, из-за колонны внезапно показались два человека с усами. Оба курили сигары и были одеты с претензией на звание благородных господ, однако – бедняги! – оказались плебеями в душе. Заговорили развязно, и хоть я шла быстро, долго не отставали. Наконец показался полицейский патруль, и опасные преследователи поспешили скрыться в темном переулке, однако успели настолько меня напугать, что я уже не понимала, где нахожусь. Лестницу, должно быть, давно прошла. Запыхавшись, с тяжело бьющимся от волнения сердцем, я остановилась в растерянности. Страшно было снова столкнуться с бородатыми преследователями, однако ничего иного, кроме как направиться в обратную сторону в поисках освещенных ступеней, не оставалось.
Наконец я нашла старую, стертую лестницу и, решив, что именно о ней и шла речь, спустилась. Улица, на которой оказалась, действительно выглядела узкой, к тому же тихой, относительно чистой и аккуратно вымощенной. Вот только гостиницы на ней не было. Я медленно пошла вперед и заметила свет над дверью большого, возвышавшегося над окружающими постройками здания. Здесь вполне могла располагаться гостиница. Колени дрожали от усталости и волнения, но я все же ускорила шаг.
Однако это оказалась вовсе не гостиница. Импозантные ворота украшала медная табличка: «Пансионат для девочек мадам Бек».
Я вздрогнула. В голове вихрем пронесся сонм мыслей, но я не услышала ни одной: не было времени, – так что Провидение приказало: «Остановись здесь. Это и есть твоя гостиница».
Судьба сжала мою руку всесильной дланью, овладела разумом и властно повелела действовать. Я позвонила.
Пока ждала, ни о чем не думала: просто смотрела на мокрые камни мостовой, в которых отражался свет лампы, считала их, замечала форму, – позвонила снова. Наконец дверь открылась. Передо мной стояла бонна в красивом чепце, и я спросила:
– Можно побеседовать с мадам Бек?
Думаю, заговори я по-французски, она бы меня не впустила, но, услышав английскую речь, решила, что иностранная учительница пришла по делам пансионата, и, несмотря на поздний час, позволила войти без единого слова возражения или момента сомнения.
Вскоре я уже сидела в холодной сверкающей гостиной с погасшим фарфоровым камином, позолоченными орнаментами на стенах и до блеска отполированным полом. Часы на каминной полке пробили девять.
Ожидание длилось четверть часа. Как быстро билось сердце! Меня бросало то в жар, то в холод! Я сидела, не сводя глаз с двери – большой белой двустворчатой двери, украшенной позолоченной лепниной в виде виноградных листьев. Вдруг показалось, что один лист шевельнулся. Вокруг царила тишина: даже мышь не скреблась. Белая дверь оставалась закрытой и неподвижной.
– Вы англичанка? – раздался голос возле моего локтя.
Я едва не подпрыгнула: настолько неожиданным оказался звук.
Рядом стоял вовсе не призрак и не существо потустороннего вида, а всего лишь невысокого роста полная женщина, закутанная в большую шаль поверх халата и в чистом нарядном чепце.
Я ответила, что англичанка, и сразу, без дальнейшей прелюдии, между нами завязался удивительный разговор. Мадам Бек (ибо это была она – вошла в мягких домашних туфлях через маленькую дверь за моей спиной и приблизилась неслышными шагами) исчерпала запас познаний в островной речи, спросив, англичанка ли я, и теперь продолжила бойко изъясняться уже на родном языке. Я отвечала на своем. Она немного понимала меня, но поскольку я совсем ее не понимала, хотя вместе мы создавали ужасный шум (прежде никогда не встречала и даже не представляла красноречия, подобного ее безудержному словесному потоку), прогресс оказался незначительным. Вскоре мадам позвонила и попросила о помощи, и та явилась в образе maitresse, которая когда-то жила в ирландском монастыре и считалась безупречным знатоком английского языка. Учительница эта – истинная уроженка Лабаскура – оказалась мастерицей пускать пыль в глаза. Как же она издевалась над гордой речью Альбиона! Тем не менее я честно поведала ей простую историю, которую она каким-то образом перевела: как покинула родную страну, чтобы расширить познания и заработать на хлеб; как стремлюсь приложить руки к любому полезному делу, лишь бы оно было не дурным и не унизительным; как хочу стать няней или горничной и не откажусь от посильной работы по хозяйству. Мадам выслушала внимательно, и, судя по выражению лица, история проникла в ее сознание.
– Il n’y a que les Anglaises pour ces sortes d’entreprises[11], – проговорила она. – Sontelles donc intrépides ces femmes là![12]
Она спросила, как меня зовут, сколько мне лет. Сидела и смотрела без тени жалости, но и без всякого интереса. Во время беседы лицо ее не выражало ни симпатии, ни презрения. Стало ясно, что чувства над ней не властны. Она наблюдала и слушала серьезно и внимательно, полагаясь на собственные суждения. Послышался удар колокола.
– Пора к вечерней молитве, – заключила мадам Бек и, поднявшись, через переводчицу порекомендовала мне уйти и вернуться завтра.
Это меня никак не устраивало: вновь предстать перед опасностями тьмы и улицы было выше моих сил. Со всей энергией, заключенной в сдержанной, скромной манере, я обратилась лично к госпоже, а не к учительнице:
– Поверьте, мадам: если немедленно примете меня на работу, интересы ваши нисколько не пострадают, а, напротив, будут полностью соблюдены. Увидите, что своим трудом я в полной мере оправдаю жалованье. Если наймете меня сейчас же, это будет тем лучше, что я смогу остаться на ночь: не зная языка и не имея знакомых, как мне удастся найти приют?
– Верно, – ответила мадам Бек. – Но вы можете представить хотя бы рекомендации?
– Ни единой.
Она спросила о моем багаже, и я ответила, что он скоро прибудет. Она опять задумалась. В этот момент в вестибюле послышались мужские шаги, быстро направлявшиеся к выходу (продолжу рассказ так, как будто понимала все, что происходит, хотя тогда разговор оставался загадкой, и лишь впоследствии я услышала его в переводе).
– Кто уходит? – осведомилась мадам Бек, обратив внимание на шаги.
– Месье Поль, – ответила учительница. – Сегодня вечером он читал первому классу.
– Именно его я сейчас хочу видеть больше всех. Позовите.
Учительница бросилась к двери гостиной и окликнула месье Поля. Тот вошел: маленький, темноволосый, худой, в очках.
– Кузен, – обратилась к нему мадам Бек, – мне необходимо ваше суждение. Всем известно, насколько вы искусны в физиономике. Используйте свое мастерство, прочитайте это лицо.
Очки сосредоточились на мне. Решительно сжатые губы, нахмуренный лоб доказывали, что он видит меня насквозь, невзирая на покровы и завесы.
– Прочитал, – наконец заявил он.
– Et qu’en dites vous?[13]
– Mais… bien des choses[14], – не замедлил с ответом оракул.
– Хорошего или плохого?
– Несомненно, и того и другого, – заверил прорицатель.
– Можно верить ее словам?
– Вы обсуждаете важное дело?
– Она просится на работу в качестве бонны или гувернантки, рассказывает заслуживающую доверия историю, но не может предоставить рекомендаций.
– Иностранка?
– Судя по всему, англичанка.
– Говорит по-французски?
– Ни слова.
– Понимает?
– Нет.
– Можно говорить при ней прямо?
– Несомненно.
Он посмотрел пристально.
– Вы нуждаетесь в ее услугах?
– Не отказалась бы. Вам известно, насколько отвратительна мне мадам Свини.
Месье Поль снова уставился на меня. Последовавшее суждение оказалось столь же неопределенным, как и предыдущее высказывание.
– Наймите ее. Если добро возобладает в этой натуре, поступок принесет благо; если же зло… eh bien! Ma cousine, ce sera toujours une bonne oeuvre[15].
Поклонившись и пожелав bon soir[16], невнятный повелитель моей судьбы удалился.
Мадам Бек наняла меня в тот же вечер. По Божьему благословению я была избавлена от необходимости вновь оказаться на темной, страшной, враждебной улице.
Глава VIII
Мадам Бек
Получив задание позаботиться о новенькой, длинным узким коридором учительница привела меня в заграничную кухню – очень чистую, но очень странную. Казалось, там не было главного – средства приготовления еды: очага или печи. Тогда я не поняла, что занимавшая один из углов массивная черная плита успешно заменяет и то и другое. Поверьте, гордость вовсе не подняла голову в душе, и все же я испытала облегчение, когда, вместо того чтобы оставить в кухне, как можно было предположить, меня провели в маленькую внутреннюю комнату под названием «кабинет», и повариха в кофте, короткой юбке и деревянных башмаках принесла ужин, а именно: поданное в странном – кислом, но приятном – соусе мясо неизвестного происхождения, мелко порезанный картофель, приправленный непонятно чем – полагаю, уксусом и сахаром, – кусок хлеба с маслом и печеную грушу. Отчаянно проголодавшись, я быстро и с благодарностью все это съела.
После prière du soir[17] мадам пришла еще раз на меня посмотреть и захотела, чтобы я отправилась с ней наверх. Через вереницу необычайно странных каморок – как оказалось впоследствии, некогда бывших монашескими кельями, так как здание являлось частью монастыря, – через часовню – длинную, низкую, мрачную, где на стене висело бледное распятие и тускло горели две свечи, – она привела меня в комнату, где в трех крошечных кроватках спали три девочки. Из-за раскаленной печи здесь царила гнетущая духота. Очевидно, чтобы исправить положение, в воздухе витал аромат: скорее сильный, чем деликатный, и совершенно неожиданный в данных обстоятельствах, напоминавший сочетание дыма с некой алкогольной эссенцией – скорее всего виски.
Возле стола, где, забытая в подсвечнике, догорала свеча, в глубоком кресле крепко спала мужеподобная женщина, странно одетая – в нескромное полосатое шелковое платье и шерстяной передник – матрона. Завершая сюжет и не оставляя сомнений в положении вещей, у локтя спящей красотки стояла бутылка и пустой стакан.
С величайшим самообладанием мадам созерцала эту картину, не улыбалась и не хмурилась. На невозмутимо спокойном лице не отразилось даже тени гнева, отвращения или удивления. Она даже не разбудила даму! А безмятежно указала на четвертую кровать, давая понять, что это мое место, затем, погасив свечу и заменив ее ночником, вышла через внутреннюю дверь, оставив ее приоткрытой. Сквозь щель я увидела ее личные покои – большую, хорошо обставленную комнату.
Тем вечером молитва моя была преисполнена благодарности. С самого утра, неожиданно направляя и помогая, меня вела странная сила. Трудно было представить, что еще и двух суток не прошло с тех пор, как я оставила Лондон, не имея другой защиты, кроме той, какая положена любой перелетной птице, не ведая другой цели, кроме туманного облачка надежды.
Спала я чутко и среди ночи внезапно проснулась. Было абсолютно тихо, но посреди комнаты стояла белая фигура – мадам в ночной сорочке. Беззвучно двигаясь, она проверила, как там дети в своих кроватках, и подошла ко мне. Я притворилась спящей, и она долго на меня смотрела, усевшись на край постели, пристально глядя в лицо. Потом придвинулась ближе, наклонилась, слегка приподняла чепчик и отвернула оборку, открывая волосы. Взгляд ее переместился на лежавшую поверх одеяла руку, а затем она повернулась к изножью кровати – к стулу, где я оставила одежду. Услышав, что она дотронулась до нее, я настороженно открыла глаза: хотелось узнать, насколько далеко зайдет исследовательский интерес. Мадам Бек изучила каждый предмет, и я поняла, с какой целью: видимо, по одежде она хотела составить мнение о владелице – положении, средствах, аккуратности. Цель сама по себе неплохая, хотя средства трудно назвать порядочными или оправданными. В моем платье имелся карман, и она вывернула его буквально наизнанку: пересчитала деньги в кошельке, открыла маленькую записную книжку, хладнокровно изучила содержание и достала хранившийся между страницами седой локон мисс Марчмонт. Особого внимания заслужила связка из трех ключей: от саквояжа, секретера и рабочей шкатулки. Взяв ключи, она вышла в свою комнату. Я немного приподнялась и проводила ее взглядом. Поверьте, читатель: ключи не вернулись до тех пор, пока не оставили следы бороздок на восковой пластине. Методично пройдя все необходимые процедуры, вещи и одежда были должным образом сложены и возвращены на свои места. Какого свойства выводы последовали из столь тщательного осмотра – благоприятные или враждебные? Тщетно гадать. Каменное лицо (ибо сейчас, ночью, оно действительно выглядело каменным, хотя прежде, в гостиной, казалось едва ли не материнским) ничего не выражало.
Исполнив свой долг – именно так она наверняка воспринимала эти действия, – мадам Бек встала и неслышно, словно тень, направилась к себе, возле двери обернувшись и устремив взгляд на любительницу выпить, которая по-прежнему спала и громко храпела. Судьба миссис Свини (полагаю, по-английски или по-ирландски фамилия звучала как «Суини») – была решена. Взгляд мадам Бек не оставлял сомнений: кара за порок станет тихой, но неотвратимой. Все это выглядело чрезвычайно не по-английски. Поистине, я оказалась в чуждой стране.
Утром мне довелось познакомиться с миссис Суини поближе. Выяснилось, что хозяйке пансионата она представилась английской леди в затруднительных обстоятельствах, уроженкой Мидлсбро, которая говорит на чистейшем английском, без малейшего акцента. Полагаясь на собственные непогрешимые средства своевременного постижения правды, мадам обладала особой отвагой, нанимая сотрудниц экспромтом (что красноречиво доказал мой личный опыт). Миссис Суини она приняла на работу в качестве няни и гувернантки трех своих дочек. Вряд ли необходимо объяснять читателю, что на самом деле означенная леди оказалась уроженкой Ирландии. О ее положении судить не берусь. Сама она безапелляционно заявила, что воспитала сына и дочь маркиза. Думаю, однако, что, скорее всего, дамочка была приживалкой, нянькой, кормилицей или прачкой в какой-нибудь ирландской семье, но непонятно почему коверкала свою речь свойственными кокни причудливыми окончаниями. Каким-то неясным способом она получила в свое полное распоряжение подозрительно богатый гардероб. Плохо сидевшие платья из плотного дорогого шелка явно были рассчитаны на иную фигуру. Чепцы с отделкой из старинных кружев не соответствовали образу хозяйки. Но главный козырь – волшебство, рождавшее благоговейный страх среди презрительно настроенных учительниц и служанок и даже, красуясь на широких плечах, производившее впечатление на саму мадам Бек – заключался в настоящей индийской шали. «Un véritable cachemire»[18], – с почтительным изумлением признала директриса. Не сомневаюсь, что без этого самого кашемира миссис Суини не продержалась бы в доме и пары дней; лишь благодаря достоинствам чудесной шали срок увеличился до месяца.
Едва узнав, что появилась претендентка на ее место, она обрушила на мадам Бек всю свою мощь и напала на меня, сконцентрировав силу и вес. Мадам выдержала атаку настолько стоически, с таким несокрушимым благородством, что из одного лишь стыда мне не оставалось ничего иного, как проявить терпение. Лишь на краткий миг она покинула комнату, а спустя десять минут в пансионате уже была полиция. Миссис Суини удалилась вместе с вещами. Во время трогательной сцены прощания лоб мадам Бек не омрачился ни единой морщиной, а с губ не слетело ни одного резко произнесенного слова.
Краткая процедура увольнения состоялась перед завтраком. Команда убираться вон прозвучала, полицейские явились, и нарушительница порядка немедленно отправилась восвояси. Chambre d’enfans[19] была окурена благовониями, тщательно вымыта и проветрена. Таким образом, все следы безупречно воспитанной миссис Суини – включая благородный, обладающий возвышенным ароматом напиток, тонко, но фатально объяснивший суть ее преступления, – были безвозвратно удалены с рю Фоссет. Как я уже сказала, событие произошло между тем моментом, когда, подобно Авроре, мадам Бек появилась из своей комнаты, и приятной минутой, когда села, чтобы налить себе первую чашку кофе.
Около полудня я была вызвана, чтобы помочь мадам одеться (так выяснилось, что я стала чем-то средним между гувернанткой и горничной). До полудня она бродила по дому в халате, шали и беззвучных тапочках. Интересно, как бы отнеслась к подобной привычке хозяйка английской школы?
Уход за волосами меня озадачил: густые, пышные, каштановые, без единого проблеска седины, хотя ей уже было сорок. Заметив мое смущение, мадам спросила:
– В своей стране вы не работали femme-de-chambre[20]?
Без тени неуважения или раздражения она взяла расческу и, отстранив меня, сама привела волосы в порядок. Что касается других деталей туалета, то мадам Бек направляла меня и помогала без малейшего изъявления недовольства. Должна заметить, что это был первый и последний раз, когда мне пришлось ее одевать. В дальнейшем эту обязанность исполняла привратница Розин.
Одетая по уставу, мадам Бек предстала обладательницей невысокой и полной, однако не лишенной особой, своеобразной грации (то есть грации, основанной на пропорции частей тела), фигуры. На свежем, здоровом, не слишком румяном лице молодо сверкали спокойные голубые глаза. Темное шелковое платье сидело так, как способно сидеть лишь творение французской модистки. Мадам Бек выглядела хорошо, хотя и немного буржуазно. Собственно, она и была представительницей этого класса. Не знаю, что за гармония наполняла ее существо, и все же лицо тоже представляло собой контраст: черты ни в малейшей степени не соответствовали облику подобной свежести и безмятежности. Высокий, но узкий лоб отражал умственные способности и некоторую доброжелательность, но не широту мысли. Спокойные, но внимательные глаза не ведали горящего в сердце огня или душевной мягкости. Рот выглядел жестким – возможно, даже немного угрюмым – из-за тонких губ. Что же касается чувствительности и одаренности со свойственными им попутными качествами – нежностью и безрассудной смелостью, – мне почему-то показалось, что мадам представляет собой Минотавра в юбке.
В дальнейшем выяснилось, что она и еще кое-кто в юбке. Звали ее Модеста Мария Бек, урожденная Кинт, однако с тем же успехом имя могло звучать как Игнасия[21]. Дама она была великодушная и делала много хорошего, а начальницы более мягкой не существовало на свете. Говорили, что, несмотря на пьянство, небрежность и грубость, невыносимая миссис Суини не получила ни единого выговора и до момента отставки чувствовала себя вполне комфортно. Говорили также, что никого из учителей этого заведения никогда и ни в чем не винили, и все же они часто менялись: просто исчезали, а их место занимали другие, и никто не мог объяснить почему.
Заведение представляло собой как пансионат, так и школу. Приходящих, или дневных, учениц насчитывалось больше сотни, в то время как пансионерок немногим больше десятка. Должно быть, мадам обладала выдающимися административными способностями: подопечными, а также четырьмя учительницами, восемью учителями, шестью слугами и тремя собственными детьми, она управляла без видимого напряжения, шума, усталости, спешки или других признаков излишнего возбуждения, в то же время успевая мило общаться с родителями и родственниками учениц. Она неизменно выглядела деятельной, но редко – занятой. Поистине мадам Бек обладала собственной системой управления огромной массой людей, и система эта отличалась своеобразием: читатель уже видел ее в действии, когда хозяйка не постеснялась вывернуть наизнанку мои карманы и изучить содержание записной книжки. Похоже, она привыкла все держать под контролем.
И все же мадам Бек знала, что такое честность, и ценила это качество, но в тех случаях, когда своей неуклюжей щепетильностью оно не препятствовало ее воле и интересам. Она уважала Англию, но что касается англичанок, то, будь ее воля, не допустила бы уроженок чуждой по духу страны к своим детям и на пушечный выстрел.
Часто по вечерам, после целого дня интриг и контринтриг, подслушивания и подсматривания, докладов своих осведомителей она приходила в детскую со следами глубокой усталости на лице, садилась и слушала, как дочки по-английски читают «Отче наш» или поют тоненькими голосками гимн, начинающийся словами «Милостивый Христос». Маленьким католичкам позволялось произносить слова молитв у моих колен. А после того как я укладывала малышек спать, мадам Бек беседовала со мной (конечно, когда я уже настолько выучила французский, чтобы понимать ее и даже отвечать) об Англии и англичанках. Ей нравилось восхищаться их умственными способностями и настоящей, неподкупной честностью. При этом она проявляла здравый рассудок и излагала очень логичные суждения. Казалось, хозяйка заведения сознавала, что воспитание девочек в строгости без доверия, в слепом невежестве и под постоянным надзором, без минуты уединения далеко не лучший способ вырастить их честными и скромными, однако утверждала, что если применить к детям европейского континента иной метод воспитания, то губительные последствия неизбежны. Они настолько привыкли к строгости, что любое послабление, даже самое осторожное, будет понято ложно и использовано во вред. Мадам Бек заявляла, что ненавидит средства, которыми пользуется, однако вынуждена их применять, и после беседы со мной, часто достойной и даже утонченной, отправлялась бродить по дому, словно призрак, выслеживая и высматривая, заглядывая в каждую замочную скважину и подслушивая под каждой дверью.
В конечном итоге принятая в школе система оправдывала себя – позвольте отдать должное наставнице. Ничто не могло бы надежнее обеспечить физическое благоденствие подопечных. Умы не перенапрягались: уроки разумно распределялись и преподавались доступным, ненавязчивым способом. Существовала свобода развлечений и физической активности, поддерживавшая здоровье девочек. Пища была обильной и добротной: ни бледных, ни истощенных лиц вы бы здесь не встретили. Мадам Бек не скупилась на выходные дни, не жалела времени на сон, одевание, гигиенические процедуры, еду. Ее подход к этим вопросам отличался легкостью, справедливостью, щедростью и рациональностью. Многие суровые английские директрисы поступили бы благородно, последовав ее примеру, и, полагаю, некоторые из них были бы рады это сделать, если бы позволили придирчивые английские родители.
Поскольку мадам Бек управляла с помощью тотального контроля, у нее имелись собственные шпионы и доносчики. Она не брезговала применять для достижения своих целей самые грязные средства. А, найдя не оскверненное кровью и ржавчиной орудие, использовала его рачительно, а хранила бережно, кутая в шелк и вату.
Выгода представляла собой универсальный ключ к личности мадам Бек – главную движущую силу ее поступков, альфу и омегу жизни. И горе тем, кто пытался распространить свое доверие к ней на дюйм дальше черты ее личной заинтересованности. Мне доводилось видеть попытки обращения к ее чувствам и испытывать к умолявшим о снисхождении жалость, смешанную с презрением. Никому не удавалось ни добиться ее внимания таким способом, ни изменить намерений таким путем. Напротив, стремление затронуть сердце неизбежно вело к антипатии и превращало мадам Бек в тайного врага, поскольку наглядно доказывало отсутствие милосердия и напоминало о темных сторонах личности, где она оказывалась не просто слабой, но и мертвой. Никогда ни до, ни после нее различие между благотворительностью и добротой не проявлялось с большей яркостью. Лишенная чувства сострадания, мадам Бек в достаточной степени обладала рациональной щедростью: была готова давать людям, которых никогда не видела, однако скорее классам, чем отдельным личностям. Без сомнения открывала кошелек pour les pauvres[22], хотя для конкретного бедняка держала его плотно закрытым. С энтузиазмом принимала участие в филантропических начинаниях на пользу общества в целом, в то время как чье-то личное горе оставляло ее равнодушной. Ни сила, ни объем страдания, сконцентрированного в одном сердце, не обладали достаточной остротой, чтобы пронзить ее сердце. Ни душевные муки в Гефсиманском саду, ни смерть на Голгофе не смогли бы выжать из ее глаз ни слезинки.
Повторяю: мадам Бек была великолепной, богато одаренной женщиной. Школа представляла слишком узкую сферу применения ее талантов. Ей следовало бы управлять народом, вести за собой непокорную законодательную ассамблею. Никто не смог бы ее запугать, ввергнуть в раздражение, лишить терпения и проницательности. Ей ничего бы не стоило единолично исполнять обязанности премьер-министра и начальника полиции. Умная, твердая, вероломная, скрытная и коварная, бесстрастная, наблюдательная и непроницаемая, сообразительная и бесчувственная (при полном соблюдении благопристойности) – чего еще можно желать?
Благоразумный читатель не предположит, что сконцентрированное ради его пользы понимание характера далось мне за месяц или даже за полгода. Нет! Поначалу я видела лишь пышный фасад крупного процветающего учебного заведения. Моему восхищенному взору предстал прекрасный дом, где счастливо живут и учатся здоровые, жизнерадостные девочки, хорошо одетые и ухоженные, получающие знания с восхитительной легкостью, без болезненного напряжения и напрасной траты сил. Возможно, они и не проявляли заметных успехов в науках, но все же были постоянно заняты, хоть никогда и не переутомлялись. Работа в школе мадам Бек требовала от преподавателей и воспитателей особого напряжения, поскольку на их плечи, а точнее – головы, ложилась основная нагрузка, снятая с воспитанниц. И все же занятия были организованы так искусно, что, едва напряжение оказывалось чрезмерным, коллеги быстро и умело сменяли друг друга. Иными словами, это была поистине иностранная школа, активность, мобильность и многообразие которой составляли полную и очаровательную противоположность многим английским заведениям подобного рода.
За домом располагался обширный сад, так что летом ученицы практически жили среди кустов роз и плодовых деревьев. В жаркие дни мадам Бек проводила время в тени просторной, увитой виноградом беседки, по очереди вызывая к себе класс за классом, чтобы девочки занимались при ней рукоделием или чтением. Профессора приходили скорее читать короткие живые лекции и уходили, а девочки, если хотели, делали заметки, но могли и не делать, если знали, что смогут воспользоваться конспектом подруги. Помимо ежемесячных выходных дней регулярные каникулы в течение всего года обеспечивали католические праздники. Частенько солнечным летним утром или мягким вечером пансионерки отправлялись на долгую загородную прогулку с угощением из пчелиных сот с белым вином, парного молока со свежим хлебом или кофе с булочками. Складывалась чрезвычайно приятная обстановка: мадам воплощала доброту; учителя казались вовсе не плохими – могли бы быть и хуже, – а ученицы, пусть излишне шумные и вольные, выглядели здоровыми и веселыми.
Такой картина рисовалась сквозь дымку пространства, однако настало время, когда она рассеялась, когда мне пришлось спуститься из уединенной башни детской, откуда я до этого наблюдала за происходящим, и ближе соприкоснуться с тесным мирком особняка на рю Фоссет.
Однажды я, как обычно, сидела наверху, слушала, как дети усвоили материал по английскому, и одновременно перелицовывала шелковое платье хозяйки. Мадам Бек неспешно вошла в комнату с тем сосредоточенным, задумчивым выражением лица, который лишал ее облик благожелательности, и, опустившись в кресло напротив, некоторое время молчала. Дезире, ее старшая дочь, читала небольшой рассказ миссис Барболд. Чтобы убедиться, что девочка понимает, о чем идет речь, я то и дело просила перевести предложение с английского на французский. Мадам Бек внимательно слушала, а через некоторое время осведомилась едва ли не обвинительным тоном:
– Мисс, в Англии вы работали гувернанткой?
– Нет, мадам, – ответила я с улыбкой. – Вы ошибаетесь.
– Это ваш первый педагогический опыт – с моими детьми?
Я заверила, что так и есть. Она опять замолчала, однако, вынимая булавку из подушечки, я случайно подняла глаза и обнаружила, что нахожусь под пристальным наблюдением: мадам явно меня рассматривала и оценивала, взвешивая пригодность для какой-то конкретной цели, обдумывая соответствие плану. До этого она подробно изучила все мои возможности и решила, полагаю, что отлично меня знает и все же, начиная с этого дня, в течение двух недель не переставала испытывать: подслушивала у двери детской, когда я находилась там; следовала на безопасном расстоянии, когда я отправлялась с девочками на прогулку, при любой возможности старалась подойти как можно ближе, прячась за деревьями и кустами. Осуществив, таким образом, необходимую предварительную подготовку, она наконец-то сделала свой ход.
Однажды утром мадам Бек появилась неожиданно, словно в спешке, и заявила, что оказалась в некотором затруднении. Преподаватель английского языка мистер Уилсон не пришел на занятия: очевидно, заболел. Ученицы ждали в классе, но провести урок было некому. Не могла бы я в порядке исключения дать им небольшое задание, чтобы девочки не сказали, что их лишили необходимой практики?
– В классе, мадам? – уточнила я.
– Да, в классе. Во втором отделении.
– Где шестьдесят учениц, – добавила я, поскольку знала количество, и с обычной низменной трусостью спряталась в леность, как улитка прячется в свой домик, а чтобы избежать действия, сослалась на отсутствие опыта и знаний.
Предоставленная самой себе, я неизбежно пропустила бы шанс, полностью лишенная как импульса практичности, так и амбиций, смогла бы просидеть двадцать лет, преподавая азы, перелицовывая шелковые платья и создавая по просьбе девочек причудливые наряды. Не стану утверждать, что глупый отказ оправдывался полным довольством: работа не доставляла мне ни интереса, ни радости, – однако отсутствие серьезной тревоги и личных переживаний уже представлялось огромным благом, а свобода от тяжких страданий казалась самым коротким путем к счастью. К тому же нынешнее положение сочетало две жизни: жизнь мысли и реальную жизнь. Если первая питалась странными радостями воображаемого общения с духами умерших, то привилегии второй ограничивались хлебом насущным, работой по часам и крышей над головой.
– Право, – настойчиво проговорила мадам Бек, когда я еще усерднее склонилась над выкройкой детского передника. – Оставьте вы это.
– Но Фифин ждет, мадам.
– Фифин подождет, потому что я жду вас.
Поскольку мадам Бек действительно твердо решила меня заполучить; поскольку прежний учитель давно не устраивал ее отсутствием пунктуальности и небрежностью преподавания; поскольку, в отличие от меня, она не страдала отсутствием решимости и практичности, без дальнейших возражений заставила отложить наперсток и иглу, взяла за руку и повела вниз. Оказавшись в большом квадратном холле между жилым домом и пансионатом, мадам Бек остановилась, выпустила мою ладонь, повернулась и пристально посмотрела в лицо. Я пылала и дрожала с головы до ног, боюсь, даже плакала. В действительности предстоящие трудности оказались вовсе не воображаемыми, а очень даже реальными. Одна из главных проблем заключалась в полной беспомощности перед методами, посредством которых мне предстояло преподавать. Приехав в Виллет, я сразу занялась изучением французского: днем усердно практиковалась, а по вечерам каждую свободную минуту постигала теорию – пока правила позволяли пользоваться свечами, однако до сих пор не считала, что способна свободно и правильно говорить.
– Dîtes donc, – сурово заявила мадам, – vous sentez vous réellement trop faible?[23]
Можно было бы ответить «да», вернуться в детскую и провести там остаток дней, покрываясь плесенью, однако, взглянув на мадам Бек, я увидела в выражении ее лица нечто такое, из-за чего изменила свое решение. В этот миг она предстала не столько в женском, сколько в мужском обличье. Во всех чертах сквозила сила особого свойства, и эта сила казалась чуждой, поскольку пробуждала не сочувствие, не понимание и не повиновение. Я стояла, не чувствуя себя ни успокоенной, ни побежденной, ни подавленной. Казалось, мне брошен мощный вызов противостоящего дара, и я внезапно ощутила постыдность собственной неуверенности, малодушие отказа от честолюбивых стремлений.
– Куда пойдете – назад или вперед? – спросила мадам Бек, сначала указав на маленькую дверь жилого помещения, а потом на великолепный двустворчатый портал школы.
– En avant[24], – пробормотала я.
– Но, – настойчиво продолжила она, охлаждаясь по мере того, как я распалялась, и сверля жестким взглядом, в неприязни которого я черпала силу и уверенность, – сможете ли преодолеть волнение и предстать перед классом?
Произнося эти слова, она презрительно хмыкнула: нервная возбудимость не соответствовала вкусу мадам Бек.
– Взволнована не больше, чем этот камень, – топнула я по плитке пола и добавила, глядя ей прямо в глаза:
– Bon![25] Но позвольте предупредить, что вас ждут не спокойные, благообразные английские девочки. Ce sont des Labassecouriennes, rondes, frances, brusques, et tant soit peu rebelles[26].
– Знаю, как знаю и то, что, хотя с первого дня упорно учу французский язык, говорю все еще неуверенно и с явными ошибками, чтобы заслужить их уважение, а потому неминуемо стану мишенью для презрения со стороны даже самых невежественных учениц. И тем не менее урок провести готова.
– Имейте в виду: девочки не жалуют робких преподавателей, – предупредила мадам.
– Мне известно и это. Слышала, как они взбунтовались против мисс Тернер.
Эту бедную одинокую учительницу, чью историю я знала, мадам Бек с легкостью наняла и с такой же легкостью уволила.
– C’est vrai[27], – холодно подтвердила мадам Бек. – Мисс Тернер владела вниманием класса не лучше, чем это удалось бы служанке с кухни. Держалась неуверенно, не обладала ни тактом, ни интеллектом, ни решительностью, ни достоинством. Она совсем не годилась для моих девочек.
Я не ответила – лишь молча шагнула к закрытой двери школы.
– Не ждите помощи ни от меня, ни от кого-то еще, – напутствовала мадам. – Обращение за поддержкой сразу выявит ваше несоответствие требованиям.
Я открыла дверь, вежливо пропустила ее вперед и вошла следом. За дверью располагались три большие классные комнаты. Отведенная второму отделению – та, где мне предстояло провести урок, – превосходила остальные две и вмещала самую многочисленную, самую беспокойную, самую неуправляемую публику. Впоследствии, лучше узнав обстановку, я порой думала (если подобное сравнение возможно), что тихое, воспитанное, скромное первое отделение соотносилось с шумным, необузданным, бурным вторым примерно так же, как британская палата лордов – с палатой общин.
С первого же взгляда стало ясно, что многие ученицы уже не девочки, а скорее молодые женщины. Я уже знала, что некоторые принадлежат к знатным семействам Лабаскура, и не сомневалась, что большинство не имеют ни малейшего понятия о моем положении в доме мадам Бек. Взойдя на подиум (низкую платформу, возвышающуюся над полом на одну ступеньку), где стояли стол и стул для учителя, я увидела перед собой ряд глаз и лбов, обещавших штормовую погоду: глаз, полных дерзкого огня, и лбов, жестких как мрамор и, подобно мрамору, неспособных краснеть. Континентальное представление о женщине не имеет ничего общего с островным: в Англии я никогда не видела таких глаз и лбов. Мадам Бек представила меня одной короткой холодной фразой и выплыла из комнаты, оставив наедине со славой.
Никогда не забуду ни тот первый урок, ни подводное течение жизни и характера, которое он во мне открыл. Именно тогда я начала понимать огромную пропасть между воплощенным романистами и поэтами идеалом jeune fille[28] и означенной jeune fille, какой она была в жизни.
Казалось, сидящие в первом ряду три признанные красавицы твердо решили, что bonne d’enfent[29] не должна преподавать им английский язык. Они знали, что прежде успешно справлялись с неугодными учителями; знали, что мадам готова в любую минуту вышвырнуть за борт непопулярного профессора или наставницу, но еще ни разу не помогла слабому существу сохранить место в школе: если не имеешь сил, чтобы достойно сражаться, и такта, чтобы настоять на своем, уходи прочь. Глядя на «мисс Сноу», высокомерные особы поздравляли себя с легкой победой.
Три ученицы – Бланш, Вирджиния и Анжелика – открыли боевые действия хихиканьем, которое перешло в шепот, а скоро переросло в издевательское бормотание. Его с готовностью подхватили и усилили обитательницы дальних скамей. Стремительно нараставший бунт шестидесяти строптивиц угнетал, особенно если учесть мое ограниченное владение французским, тем более в столь жестоких условиях.
Имея возможность говорить на родном языке, я бы наверняка с ними справилась и заставила слушать. Знаю, что выглядела несчастным созданием (и во многих отношениях действительно была таковым), однако природа наградила меня достаточно звучным голосом, чтобы привлечь внимание, особенно в минуты волнения и обостренного чувства. Кроме того, хоть в обычных условиях речь моя не лилась потоком, а струилась неуверенным ручейком, при нынешней необходимости прорваться сквозь мятежную массу я смогла бы обрушить на них гневные английские фразы, способные заклеймить действие в той мере, в какой оно заслуживало позора. Затем с помощью сарказма, приправленного презрительной горечью в адрес зачинщиц и скрашенного добродушной шуткой в адрес более слабых и в то же время не столь агрессивных последовательниц, можно было бы совладать с этим диким стадом и по меньшей мере обуздать его. Однако сейчас пришлось поступить иначе. Я подошла к молодой баронессе мадемуазель Бланш де Мелси – самой старшей, высокой, красивой и в то же время злобной из учениц, – остановилась перед ее партой, взяла из-под руки тетрадку, снова поднялась на подиум, демонстративно прочитала сочинение, которое оказалось невероятно глупым, и так же демонстративно, на глазах у всех, разорвала пополам грязную, заляпанную кляксами страницу.
Поступок привлек внимание, и шум стих, лишь одна девочка в последнем ряду продолжала бунтовать с прежней энергией. Я внимательно на нее посмотрела: бледное лицо, черные как ночь волосы, широкие брови вразлет, резкие черты и темные, мятежные, недобрые глаза. Я заметила, что нарушительница порядка сидела рядом с маленькой дверью, ведущей в кладовую, где хранились учебники, но сейчас встала, чтобы нагляднее выразить возмущение. Я оценила ее сложение и прикинула свои возможности. Девушка казалась высокой и крепкой, однако, учитывая эффект неожиданности, я решила, что смогу выполнить задуманное.
Как можно спокойнее, ayant l’aire de rien[30], я пересекла классную комнату, слегка толкнула дверь и, обнаружив, что она приоткрылась, внезапно стремительно втолкнула в кладовую ученицу, заперла и положила ключ в карман.
Так уж сложилось, что эта девушка – уроженка Каталонии по имени Долорес – держала остальных в страхе, поэтому мой поступок был воспринят как акт справедливости и мгновенно заслужил популярность. В глубине души все его одобрили. На миг класс замер, а потом от парты к парте поползли улыбки. Я спокойно и серьезно вернулась на подиум, вежливо попросила тишины и, словно ничего не произошло, начала диктовать. Перья мирно заскользили по страницам, и остаток урока прошел без неожиданностей.
– C’est bien[31], – заметила мадам Бек, когда я вышла из класса, разгоряченная и совершенно вымотанная. – Ça ira[32].
Все это время она подслушивала под дверью и подсматривала в замочную скважину.
С этого дня из няни я превратилась в учительницу английского языка. Мадам повысила жалованье, однако увеличила при этом в три раза нагрузку по сравнению с той, что была у мистера Уилсона.
Глава IX
Исидор
Отныне время мое было заполнено плотно и с пользой. Обучая других и прилежно занимаясь сама, я не имела свободной минуты. Это было приятно. Я чувствовала, как расту: не лежу неподвижной жертвой плесени и ржавчины, а развиваю данные природой способности и оттачиваю их постоянным применением. Передо мной открылся опыт определенного рода, причем достаточно обширный. Виллет – многонациональный город, так что в школе мадам Бек учились девочки почти из всех европейских стран, принадлежавшие к различным социальным слоям. Равенство в Лабаскуре в большом почете. Не считаясь республикой официально, государство почти является таковой по сути, так что за партами заведения мадам Бек юные графини сидели рядом с юными представительницами буржуазии. По внешнему виду было невозможно определить, где аристократка, а где девушка плебейского происхождения. Впрочем, вторые нередко отличались более открытыми и вежливыми манерами, в то время как первые тонко соблюдали баланс высокомерия и лживости, так как живая французская кровь часто смешивалась в них с болотной тиной. Должна с сожалением признать, что эффект подвижной жидкости проявлялся главным образом в масляной легкости, с которой с языка срывались лесть и ложь – в манере непринужденной и милой, однако бессердечной и неискренней.
Чтобы отдать должное всем сторонам, замечу, что коренные уроженки Лабаскура также обладали своеобразным лицемерием, однако более грубым, а потому особенно заметным. Когда ложь казалась им необходимой, они лгали с беззаботной уверенностью и свободой, не испытывая ни малейших угрызений совести. Ни единая душа в школе мадам Бек, начиная с посудомойки и заканчивая самой директрисой, не считала ложь поводом для стыда. Никто об этом даже не задумывался. Склонность к неправде, возможно, и не входила в число добродетелей, но точно относилась к самым простительным слабостям. «J’ai menti plusieurs fois»[33] – такое признание неизменно входило в ежемесячную исповедь любой девушки и женщины. Священник выслушивал невозмутимо и охотно отпускал грех. Вот если она пропустила мессу или прочитала главу романа – это совсем другое дело: эти преступления неизбежно карались суровой отповедью и наказанием.
Слабо понимая истинное положение дел, не представляя возможных результатов, я очень хорошо чувствовала себя в новой обстановке. После нескольких трудных уроков, проведенных на военном положении, на краю морального вулкана, кипевшего под ногами и швырявшего в глаза искры и горячий пар, враждебный дух по отношению ко мне пошел на убыль. Сознание мое настроилось на успех: я не выносила мысли, что во время первой же попытки встать на ноги меня опрокинет разнузданная враждебность и ничем не оправданная строптивость. Долгие часы провела без сна, обдумывая надежный план покорения мятежниц и, в дальнейшем, постоянного контроля над упрямым племенем. Прежде всего не следовало рассчитывать даже на минимальную помощь со стороны мадам Бек: ее благочестивый план заключался в сохранении нерушимой популярности среди воспитанниц – не важно, с каким ущербом для справедливости и комфорта учителей. Обращаясь к ней за поддержкой в случае затруднения, любая преподавательница тем самым обеспечивала собственное изгнание. В общении с ученицами мадам брала на себя лишь приятные, дружеские беседы и мягкие пожелания, в то же время сурово требуя от подчиненных должной твердости в случае любого кризиса, где быстрые и решительные действия неминуемо вызывали всеобщее недовольство. Таким образом, оставалось рассчитывать исключительно на собственный гибкий ум и собственную несгибаемую волю.
Не оставляло сомнений, что справиться с хамской массой с помощью грубой силы было невозможно. Следовало действовать тонко и терпеливо. Любезная и в то же время уравновешенная манера производила благоприятное впечатление; насмешки и даже смелые шутки очень редко приносили пользу; серьезные умственные нагрузки также не годились: ученицы не могли или не желали с ними справляться, решительно и бесповоротно отрицая всякое требование к памяти, рассуждению или вниманию. Там, где английская девочка средних способностей и прилежания спокойно приняла бы тему и с готовностью включилась в процесс анализа и постижения, уроженка Лабаскура рассмеялась бы в лицо, дерзко отказываясь даже попробовать: «Dieu, que c’est difficile! Je n’en veux pas. Cela m’ennuie trop»[34].
Понимающая свое дело учительница немедленно, без сомнений, споров и увещеваний, отменила бы задание, а затем с преувеличенной заботой сгладила трудности до уровня местного понимания и в таком виде вернула упражнение, щедро приправив сарказмом. Ученицы ощутили бы колкость: возможно, слегка поморщились, – но не обиделись на подобное нападение, если бы насмешка прозвучала не зло, а добродушно, в то же время показав всем, что учительница понимает их ограниченность, невежество и лень. Девочки поднимали скандал из-за трех лишних строчек на странице, однако никогда не восставали против раны, нанесенной чувству собственного достоинства. Свойственная им малая толика этого драгоценного качества личности уже привыкла к ударам и легче принимала давление прочного и твердого каблука, чем нечто иное.
Постепенно, обретая свободу и беглость французского языка, а следовательно, возможность использования подходящих случаю острых и ярких идиоматических выражений, которыми он так богат, я почувствовала, что старшие и наиболее умные девочки проникаются ко мне своеобразной симпатией. Как только ученица ощущала стремление к достойной конкуренции или пробуждение честного стыда, с этого момента ее можно было считать побежденной. Если удавалось хотя бы раз заставить уши (как правило, большие) запылать под густыми блестящими волосами, значит, дело продвигалось сравнительно успешно. Спустя некоторое время по утрам на моем столе начали появляться букеты, и в знак благодарности за это небольшое иностранное внимание я время от времени прогуливалась с кем-нибудь из учениц во время перемен. В ходе бесед раз-другой выяснилось, что я совершила непреднамеренную попытку исправить некоторые особенно искаженные понятия о принципах, постаралась донести свое понимание порочности и низости обмана. Однажды, в момент беспечной неосмотрительности, я даже призналась, что считаю ложь страшнее случайного пропуска церковной службы. Бедные девочки должны были сообщать католическим ушам обо всем, что слышали от учительницы-протестантки. Нравоучения не заставили себя ждать, а между мной и лучшими ученицами закралось нечто невидимое, неопределенное, безымянное: букеты продолжали появляться, однако дальнейшие разговоры оказались невозможными. Когда я ходила по аллее или сидела в беседке, ни одна девочка не подходила справа, однако слева, словно по волшебству, появлялась какая-нибудь учительница. Стоит ли говорить, что бесшумные туфли мадам Бек неизменно приводили ее ко мне и ставили за спиной – такую же тихую, незаметную и нежданную, как блуждающий ветерок.
Мнение сторонниц католической веры относительно моего духовного будущего однажды нашло наивное выражение. Пансионерка, которой я оказала какую-то небольшую услугу, однажды призналась:
– Мадемуазель, мне очень жаль, что вы протестантка!
– Почему же, Изабель?
– Parce que, quand vous serez morte – vous brûlerez tout de suite dans l’Enfer[35].
– Croyez-vous?[36]
– Certainement que j’y crois: tout le monde le sait; et d’ailleurs le pretre me l’a dit[37].
Изабель – очень странная, слишком простодушная девочка – вполголоса добавила:
– Pour assurer votre salut là-haut, on ferait bien de vous brûler toute vive ici-bas[38].
Я рассмеялась. Право, удержаться было невозможно.
Возможно, читатель уже забыл мисс Джиневру Фэншо? Если так, то позвольте представить эту молодую леди как успешную ученицу мадам Бек, ибо именно такой она была. Вернувшись на рю Фоссет через два-три дня после моего неожиданного появления, она почти не удивилась. Должно быть, в жилах ее текла благородная кровь, ибо не существовало ни одной герцогини, способной к столь же безупречному, совершенному, естественному равнодушию. Легкое, мимолетное удивление – единственное знакомое ей чувство подобного рода. Все другие способности мисс Фэншо пребывали в столь же слабом состоянии: симпатия и антипатия, любовь и ненависть напоминали тончайшую паутину, – однако одно свойство натуры проявлялось ярко, продолжительно и сильно. А именно – эгоизм.
Она не проявляла высокомерия и, хотя я была всего лишь няней, скоро стала считать меня если не подругой, то наперсницей, терзала тысячей безвкусных жалоб относительно школьных ссор и домашнего хозяйства: еда ей не нравилась; окружающие – как учителя, так и ученицы – вызывали презрение просто потому, что были иностранцами. Некоторое время я терпеливо мирилась с ее нападками на соленую рыбу и сваренные вкрутую яйца по пятницам, с бранью в адрес супа, хлеба и кофе, но, устав в конце концов от вечного нытья, не сдержалась и поставила ее на место, что следовало бы сделать сразу, поскольку спасительный отпор всегда действовал на нее благотворно.
Куда дольше терпела я требования в отношении работы. Ее верхняя одежда неизменно отличалась добротностью и элегантностью, однако другие, менее заметные, предметы туалета были подобраны не столь тщательно и требовали частого ремонта. Она ненавидела рукоделие и кучами приносила зашивать чулки и прочие вещи мне. Покорность продолжительностью несколько недель грозила стать постоянной, невыносимой обузой. Пришлось ей прямо заявить о необходимости самой чинить свое белье. Услышав столь жестокий приговор, мисс Фэншо расплакалась и обвинила меня в нежелании с ней дружить, однако я не сдалась и позволила истерике исчерпать себя естественным образом.
Несмотря на эти недостатки – как и на некоторые другие, не достойные упоминания, но, несомненно, не носившие утонченного или возвышенного характера, – до чего же она была хорошенькой! Как очаровательно выглядела, когда солнечным воскресным утром спускалась в холл празднично одетой: в светло-сиреневом шелковом платье, – с распущенными по плечам длинными светлыми локонами и в чудесном настроении! Воскресенье она всегда проводила в городе, с друзьями, и скоро дала мне понять, что один из них имеет более серьезные намерения. Взгляды и намеки объяснили, а жизнерадостный вид и манеры вскоре доказали, что мисс Фэншо стала объектом пылкого восхищения, а возможно даже – любви. Она называла поклонника Исидором, однако сочла необходимым сообщить, что это не настоящее имя, а то, которым называла его она, поскольку собственное показалось ей «не очень-то симпатичным». Однажды, когда Джиневра безудержно хвасталась страстной привязанностью Исидора, я спросила, отвечает ли она взаимностью.
– Comme cela[39], – ответила она. – Он красив и любит меня до безумия, так что я не скучаю. Ça suffit[40].
Обнаружив, что отношения продолжаются дольше, чем можно было ожидать от ее непостоянной натуры, однажды я осмелилась осведомиться, действительно ли джентльмен достоин одобрения родителей и особенно дяди, от которого, судя по всему, она полностью зависела. Мисс Фэншо признала, что это весьма сомнительно: похоже, Исидор не располагает значительными средствами.
– Вы его поощряете? – спросила я.
– Иногда furieusement[41], – ответила она.
– Без уверенности, что вам позволят выйти за него замуж?
– О, до чего же вы старомодны! Я еще слишком молода, чтобы думать об этом.
– Но если он любит вас, как вы утверждаете, и получит отказ, то будет страдать.
– Конечно, это разобьет ему сердце, но если этого не случится, я буду очень разочарована.
– Месье Исидор что, не блещет умом?
– Когда дело касается меня – да, но другие à ce qu’on dit[42], что он необыкновенно умен. По словам миссис Чолмондейли, например, он пробьет себе дорогу собственным талантом. Но при мне он лишь вздыхает, так что могу крутить им как хочу.
Чтобы получить более определенное представление о сраженном любовью месье Исидоре, чье положение показалось мне в высшей степени шатким, я попросила мисс Фэншо описать, как он выглядит, однако ей это оказалось не под силу: не хватало слов и умения сложить их так, чтобы получались фразы. Казалось, она до сих пор так и не разглядела поклонника: ничто в его внешности не тронуло ее сердце и не отложилось в памяти. Мисс Фэншо смогла сказать лишь одно: «Beau, mais plutôt bel homme que joli garçon»[43]. Терпение мое давно бы лопнуло, а интерес к ее откровениям пропал, если бы не одно обстоятельство. Все намеки мисс Фэншо, все подробности непреднамеренно доказывали, что месье Исидор выражал поклонение с величайшей деликатностью и огромным уважением. Я прямо сообщила, что считаю его слишком хорошим для нее, и с равной откровенностью выразила собственное мнение: она тщеславная кокетка. Мисс Фэншо рассмеялась, тряхнула головой, чтобы убрать упавшие на лицо локоны, и удалилась с таким видом, словно услышала комплимент.
Успехи Джиневры в учебе следовало считать чуть выше ничтожных. Всерьез она занималась лишь тремя предметами: пением, музыкой и танцами, а еще прекрасно вышивала батистовые носовые платочки, которые не могла позволить себе купить. Задания по истории, географии, грамматике и арифметике она не выполняла вовсе или просила сделать кого-нибудь. Значительная часть ее времени посвящалась визитам. Понимая, что пребывание мисс Фэншо в школе ограничено определенным периодом и не будет продлено независимо от успехов, мадам Бек предоставляла ей в этом полную свободу. Миссис Чолмондейли, ее дуэнья – веселая модная леди, – приглашала подопечную всякий раз, когда собирала гостей у себя, а иногда возила на вечера в другие дома. Джиневра вполне одобряла светский образ жизни. Существовало лишь одно неудобство: нужно было красиво и разнообразно одеваться, а на новые платья не хватало денег. Все мысли сошлись на этой проблеме, душа сосредоточилась на поисках доступных средств для ее решения. Активность обычно ленивого ума оказалась удивительной, а вызванная сознанием необходимости и стремлением блистать неустрашимость поражала.
Она смело обращалась за помощью к миссис Чолмондейли (именно смело, а вовсе не с видом стыдливого смущения): «Дорогая миссис Чолмондейли, мне совсем нечего надеть на вечер на будущей неделе, поэтому вам придется подарить мне то муслиновое платье и ceinture bleu céleste[44]. Дайте, пожалуйста, мой ангел!»
Поначалу «дорогая миссис Чолмондейли» соглашалась, однако, по мере того как просьбы множились, ей, как и остальным друзьям мисс Фэншо, пришлось противопоставить агрессии сопротивление. Спустя некоторое время я больше не слышала о подарках благодетельницы, хотя визиты продолжались, равно как продолжалась череда абсолютно необходимых платьев вместе с небольшими, но дорогими аксессуарами: перчатками, букетами, милыми безделушками. Вопреки обыкновению, поскольку скрытностью Джиневра не отличалась, – некоторое время все эти вещи усердно скрывались, но однажды, отправляясь на бал, когда требовалась особая тщательность при выборе туалета, она не смогла устоять против искушения и зашла ко мне, чтобы предстать во всем великолепии.
Выглядела она прекрасно: такая молодая, такая свежая, с чисто английской нежностью кожи и гибкостью стана, которых не найти в перечне прелестей континентальных женщин.
Я осмотрела мисс Фэншо с головы до ног, а она несколько раз беззаботно повернулась, чтобы показаться со всех сторон. Наряд ее был явно недешевым и смотрелся безупречно. Я с первого взгляда заметила присутствие всех деталей отделки, которые требуют немалых денег и создают впечатление элегантной законченности. По привычке выражать восторг девчачьим способом она собралась чмокнуть меня в щеку, но я ее опередила, удержав на расстоянии вытянутой руки, чтобы лучше рассмотреть:
– Подождите! Давайте для начала выясним источник средств для подобного великолепия.
Сознание собственного очарования похоже, отключило ее слух, поскольку, словно не расслышав вопроса, она спросила:
– Как я выгляжу?
– Вполне достойно.
Мисс Фэншо сочла похвалу недостаточно пылкой и решила привлечь мое внимание к деталям туалета:
– Взгляните на этот parure[45]: брошь, серьги, браслеты. Ни у кого в школе ничего подобного нет, даже у самой мадам.
– Да, очень красиво и явно дорого. Эти украшения купил месье Бассомпьер?
– Дядюшка? Да вы что!
– Тогда подарила миссис Чолмондейли?
– Ничего подобного. Она стала жадной и скаредной – больше ничего мне не дарит.
Я не стала расспрашивать и резко отвернулась.
– Ну же, мудрая старушка, милый Диоген (она меня так называла, когда наши мнения не совпадали), что случилось?
– Извольте убраться с глаз долой: не желаю вас больше видеть.
На миг она застыла в изумлении.
– В чем дело, матушка Строгость? Я не залезла в долги – ни за драгоценности, ни за букет, ни за перчатки. Платье не оплачено, но его стоимость будет включена в общий счет, и дядя заплатит. Он никогда не вникает в подробности, а смотрит на конечную сумму, к тому же настолько богат, что не стоит беспокоиться о нескольких лишних гинеях.
– Вы уйдете наконец? Я хочу закрыть дверь… Джиневра, кому-то этот бальный наряд, возможно, и покажется роскошным, но для меня вы никогда не будете так очаровательны, как в простом ситцевом платье и соломенной шляпе, в которых я видела вас на корабле.
– Далеко не все разделяют ваши пуританские взгляды, – буркнула мисс Фэншо. – К тому же меня вы отчитывать не имеете права.
– Несомненно, мои права ничтожны, но еще меньше ваше право являться ко мне, красоваться и хвастаться. Вы как сойка в чужих перьях, и я к ним не испытываю ни малейшего уважения, особенно к тем блестящим камням, которые вы называете гарнитуром. Они были бы чудесны, купи вы их на собственные деньги, причем свободные, а в нынешних обстоятельствах их прелесть меркнет.
– On est-là pour Mademoiselle Fanshawe![46] – объявила привратница, и Джиневра упорхнула.
Загадка украшений сохранялась два-три дня, а потом кокетка опять пришла ко мне.
– Незачем на меня сердиться: я никого не ввергаю в долги. Уверяю вас: все, кроме нескольких недавно купленных платьев, оплачено.
Я решила, что в этом и заключается тайна, поскольку ее собственные средства ограничены несколькими шиллингами, которые она рачительно экономит.
– Écoutez, chère grogneuse![47] – пустила в ход самый доверительный, самый ласковый тон мисс Фэншо, поскольку моя «мрачность» ее нервировала. Ее больше устраивало, когда я говорю, пусть и даже что-то нелицеприятное. Я расскажу все начистоту, и вы сами увидите, что все сделано не только правильно, но и умно. Во-первых, я должна регулярно выезжать. Папа в беседе с миссис Чолмондейли особо отметил, что я выгляжу слишком просто, как школьница, хотя и достаточно мила, и мне нужно избавиться от этого недостатка, прежде чем дебютировать в Англии, то есть выезжать в свет. Значит, необходимо прилично одеваться. Миссис Чолмондейли больше не хочет ничего мне давать, а заставлять за все платить дядюшку слишком жестоко (этого вы не станете отрицать, потому что сами проповедовали нечто подобное). И вот один человек услышал (уверяю вас, совершенно случайно), как я просила миссис Чолмондейли в силу стесненных обстоятельств купить пару украшений. Вы бы видели, с какой радостью он предложил мне сделать подарок, как краснел и едва ли не трепетал, опасаясь отказа.
– Достаточно, мисс Фэншо, – перебила я. – Полагаю, этот благодетель – месье Исидор? Из его рук вы приняли дорогой гарнитур? Это он снабжает вас букетами и перчатками?
– Вы меня осуждаете? Да я всего лишь иногда оказываю Исидору честь, позволяя выражать поклонение посредством небольших подарков.
– Честно говоря, Джиневра, я не слишком хорошо разбираюсь в подобных вопросах, но считаю, что вы поступаете плохо, по-настоящему плохо. Впрочем, может, вы решили все же выйти замуж за месье Исидора? Родители и дядя дали согласие?
– Mais pas du tout! Je suis sa reine, mais il n’est pas mon roi[48].
Она всегда переходила на французский, когда собиралась сказать что-нибудь скабрезное.
– Простите, но в вас нет ни капли королевского величия, и все же я верю, что вы не настолько циничны, чтобы воспользоваться добротой и деньгами человека, к которому абсолютно равнодушны. Должно быть, вы все же любите месье Исидора, хотя и не готовы это признать.
– Нет. Я часто спрашиваю себя, почему так к нему холодна. Все говорят, что он красив: многие леди им восхищаются, – но мне почему-то с ним скучно. Понять бы отчего…
Она, кажется, попыталась задуматься, и я поддержала ее намерение:
– Попробуйте разобраться в себе. Мне кажется, у вас в мыслях полный хаос.
– Да, вы правы! – воскликнула мисс Фэншо через некоторое время. – Исидор слишком романтичен и предан, ожидает от меня большего, чем мне удобно, считает совершенной, обладающей всеми ценными качествами и истинными добродетелями, которых я никогда не имела и не собираюсь приобретать. В его присутствии приходится соответствовать высокой оценке, но как же это утомительно – быть паинькой и говорить правильные слова! Он действительно считает меня умной. Мне куда легче рядом с вами, старушка, с вами, дорогая ворчунья. Вы знаете, что я кокетка, эгоистка, невежественная, непостоянная, глупая, но тем не менее принимаете меня – со всеми недостатками.
– Все это очень хорошо, – ответила я, стараясь сохранить серьезность, пока та не утонула в потоке причудливой искренности, – однако не меняет презренного положения с подарками. Упакуйте их, Джиневра, как и следует поступить добропорядочной леди, и отошлите обратно.
– Нет, я этого не сделаю! – категорично заявила девица.
– В таком случае продолжайте обманывать месье Исидора. Вполне логично предположить, что он однажды захочет получить что-то взамен…
– Не получит! – отрезала Джиневра. – Достаточно и того, что он получает удовольствие, созерцая меня в этих украшениях, ведь он всего лишь буржуа.
Эти слова, наполненные тупой заносчивостью и бесчувственным высокомерием, моментально излечили меня от временной слабости, заставившей смягчить и отношение, и тон, а она продолжала:
– Мое дело – наслаждаться молодостью, а не думать о том, чтобы связать себя обещанием или клятвой с тем или иным мужчиной. Увидев Исидора, я поверила, что он поможет мне в этом, что будет рад принять просто как хорошенькую девушку, что мы с ним будем встречаться, расставаться и порхать, как две счастливые бабочки. И вот пожалуйста! Порой он мрачен, как судья, полон чувств и мыслей. Фу! Les penseurs, les hommes profonds et passionnés ne sont pas à mon goût[49]. Полковник Альфред де Амаль подходит мне куда лучше. Va pour les beaux fats et les jolis fripons![50] Vive les joies et les plaisirs! Á bas les grandes passions et les sévères vertus![51]
Она взглянула, ожидая ответа на свою тираду, но я молчала, поэтому продолжила:
– J’aime mon bon сolonel. Je n’aime rai jamais son rival. Je ne serai jamais femme de bourgeois, moi![52]
После этого я потребовала, чтобы она немедленно избавила меня от своего присутствия, и мисс Фэншо со смехом удалилась.
Глава X
Доктор Джон
Мадам Бек обладала необыкновенно стойким характером и терпеливо относилась ко всему миру, не испытывая нежности ни к одной из его составляющих. Даже собственные дети не выводили ее из неизменного состояния стоического спокойствия. Она заботилась о семье, неустанно охраняла ее интересы и физическое благополучие, но никогда не испытывала желания посадить малышек на колени, прижаться губами к нежным розовым щечкам, заключить в сердечные объятия, осыпать искренними ласками, одарить словами любви.
Иногда я видела, как она сидит в саду, издали наблюдая за своими пчелками, когда те прогуливаются по аллее в сопровождении Тринет, новой бонны, и всем своим обликом выражает заботу и благоразумие. Знаю, что она часто с тревогой задумывалась о том, что называла «leur avenir»[53], однако если младшая из девочек – крохотная, слабая, но обворожительная – замечала мать, оставляла няню и топала по аллее, чтобы со смехом и радостью обнять ее колени, мадам Бек невозмутимо вытягивала руку, чтобы предотвратить нежелательное прикосновение, и холодно заявляла:
– Prends garde, mon enfant![54]
Терпеливо позволив малышке несколько мгновений постоять рядом, она без тени улыбки, намека на поцелуй и ласкового слова вставала и отводила дочку обратно к бонне.
Обращение со старшей девочкой было столь же характерным, хотя и в ином ключе. Надо признаться, та росла крайне непослушной.
«Quelle peste que cette Désirée! Quel poison que cet enfant là!»[55] Подобные выражения звучали в адрес девочки повсюду – как на кухне, так и в классе. Среди прочих талантов она могла похвастать и редким мастерством в искусстве провокации: случалось, доводила няню и слуг едва ли не до бешенства. Она забиралась в их каморки, открывала ящики и коробки, коварно рвала чепцы и пачкала шали; улучив возможность тайком проникнуть в столовую и подкрасться к буфету, била фарфоровую и стеклянную посуду; умудрившись забраться в кладовку, портила запасы, пила сладкое вино, открывала банки и бутылки – и все ради того, чтобы бросить тень подозрения на повариху и служанку. Когда мадам становилась свидетельницей коварства дочери или получала жалобы, то лишь с несравненным спокойствием замечала: «Désirée a besoin d’une surveillance toute particulière»[56].
Следует отметить, что она предпочитала хранить многообещающую оливковую ветвь при себе: ни разу я не видела, чтобы честно указала дочери на проступки, объяснила зло коварных действий и продемонстрировала результаты, которые должны были бы последовать. Исправить положение был призван особый надзор. Разумеется, ничего не получилось. Оказавшись в некотором отдалении от слуг, Дезире начала дразнить и изводить мать: крала и прятала все, что находила на столах – рабочем и туалетном. Мадам Бек все замечала, однако предпочитала делать вид, что ничего не видит и не знает: ей недоставало объективности, чтобы открыто противостоять порокам собственного ребенка. Когда исчезал какой-то ценный предмет, она пыталась все представить так, будто Дезире случайно взяла его во время игры, и предлагала вернуть, однако та не поддавалась на обман и утверждала, что не брала брошь, кольцо или ножницы. Поддерживая эту ложь, матушка невозмутимо изображала доверие, но в то же время следила за дочерью до тех пор, пока не обнаруживала тайник: углубление в садовой стене, темный уголок на чердаке или в сарае. Достигнув успеха, мадам отправляла Дезире на прогулку с бонной, а сама в это время беспрепятственно забирала пропажу. Дезире, будучи истинной дочерью своей хитроумной матушки, никогда ни словом, ни взглядом не выдавала горечи утраты и даже никак не показывала, что ее заметила.
Говорили, что средняя дочь мадам, Фифин, унаследовала характер своего умершего отца. Мать передала ей здоровую конституцию, голубые глаза и румянец, однако не моральную сущность. Девочка обладала честной, жизнерадостной душой и страстным, горячим, неугомонным темпераментом, часто приводившим к неприятностям и даже несчастным случаям. Однажды бойкое дитя умудрилось пролететь по каменным ступеням крутой лестницы сверху донизу. Услышав шум (она всегда мгновенно реагировала на любой шум), мадам вышла из столовой, подняла девочку и невозмутимо произнесла:
– Cet enfant a un os cassé[57].
Поначалу мы надеялись, что это не так, однако она оказалась права: маленькая пухлая ручка безвольно висела.
– Пусть мисс Сноу возьмет ее, – распорядилась мадам Бек, – et qu’on aille tout de suite chercher un fiacre[58].
Как только экипаж прибыл, она поспешно, но с восхитительным хладнокровием и самообладанием отправилась за доктором. Семейного врача дома она не застала и продолжала поиски до тех пор, пока не нашла и не привезла достойную замену. Я же тем временем успела разрезать рукав, раздеть Фифин и уложить в постель.
Никто из нас, собравшись в маленькой, жарко натопленной комнате, не посмотрел на доктора внимательно, когда тот вошел в детскую. Я, по крайней мере, пыталась успокоить девочку, чьи крики (она обладала хорошими легкими) оглушали. Как только к кровати приблизился незнакомый человек и попытался ее приподнять, Фифин на ломаном английском завопила еще отчаяннее:
– Оставьте меня! Не желаю вас! Желаю доктора Пиллюля!
– Доктор Пиллюль – мой добрый друг, – спокойно произнес доктор на безукоризненном английском языке. – Но он сейчас уехал к другому больному, в трех лигах отсюда, поэтому я вместо него. Как только мы немного успокоимся, можно будет приступить к делу и привести пострадавшую ручку в полный порядок.
После этого доктор попросил принести стакан очень сладкого чая, дал несколько ложек девочке (Фифин всегда можно было завоевать с помощью чего-нибудь вкусного), пообещал добавки после завершения процедуры и быстро приступил к работе. Когда ему потребовалась помощь, доктор обратился к поварихе – крепкой массивной женщине, – однако та немедленно исчезла вместе с привратницей и няней, так что пришлось включиться в процесс мне. Было очень страшно прикасаться к маленькой изувеченной ручке, но поскольку альтернативы не было, я тут же подставила ладонь. Однако мадам Бек меня опередила: ее рука оставалась твердой, в то время как моя дрожала.
– Ça vaudra mieux[59], – заметил доктор и с пренебрежением от меня отвернулся.
В своем выборе он проявил мудрость. Мой стоицизм был притворным, сила духа – вынужденной, в то время как мадам Бек действовала естественно, без напряжения и страха.
– Merci, madame: très bien, fort bien![60] – похвалил доктор, закончив работу. – Voilà un sang-froid bien opprtun, et qui vaut mille élans de sensibilité déplacée[61].
Он остался доволен ее твердостью, а она – заслуженным комплиментом. Скорее всего облик доктора, голос, поведение, манеры произвели благоприятное впечатление. Действительно, когда принесли лампу – ибо уже наступил вечер и в комнате стемнело – и удалось посмотреть на него внимательно, то сразу стало ясно, что, если мадам Бек сохранила женственность, иначе и быть не могло. Этот молодой доктор обладал необычной внешностью. В тесной комнате, среди женщин фламандского типа он выглядел впечатляюще высоким, а гордый профиль отличался четкостью, красотой и выразительностью. Возможно, взгляд переходил с одного лица на другое слишком живо, слишком быстро и слишком часто, однако глаза имели приятное выражение, как и губы. Греческий подбородок с небольшой ямочкой выглядел сильным и совершенным. Что касается улыбки, то в спешке трудно было подобрать подходящий эпитет: что-то в ней радовало, а что-то заставляло мгновенно вспомнить свои недостатки и слабости – все, что достойно осмеяния. И все же эта двойственная улыбка понравилась Фифин, а ее обладатель показался добрым. Несмотря на то что доктор причинил ей боль, девочка с готовностью вытянула здоровую руку, чтобы дружески попрощаться с ним и пожелать хорошего вечера. Он же бережно пожал детскую ладошку и вместе с мадам Бек отправился вниз. Она была необыкновенно возбуждена и многословна, а он молча, с добродушной снисходительностью слушал, сбитый с толку этим откровенным кокетством.
Я заметила, что хотя доктор и говорил по-французски очень хорошо, все же по-английски изъяснялся значительно свободнее, к тому же обладал английским цветом лица, английскими глазами и фигурой. Заметила и еще кое-что: когда он направился к двери и на миг взглянул в мою сторону – хотя продолжал говорить с мадам, – мутное воспоминание, зародившееся при первом звуке его голоса, тотчас прояснилось и оформилось. Это был тот самый джентльмен, который помог мне с саквояжем и благодаря которому я оказалась здесь. Узнала я и его походку, когда он шел к выходу по длинному вестибюлю: за этими твердыми ровными шагами я спешила под проливным дождем по темному парку.
Логично было предположить, что первый визит молодого хирурга на рю Фоссет станет последним: возвращение уважаемого доктора Пиллюля ожидалось уже на следующий день, так что временному заместителю незачем было являться вновь, – однако судьба распорядилась иначе.
Доктор Пиллюль навещал старого ипохондрика в древнем университетском городе Букен-Муаси, но, поскольку тому требовалось сменить не только обстановку, но и климат, был вынужден сопровождать пациента, что заняло нескольких недель. Таким образом, продолжить лечение ребенка на рю Фоссет пришлось новому доктору.
Я часто его видела, поскольку мадам не доверяла маленькую пациентку заботам Тринет и требовала моего присутствия в детской значительную часть времени. Думаю, доктор был очень умелым: благодаря его заботам Фифин быстро поправлялась, но даже это не давало ему возможности оставить пациентку. Судьба и мадам Бек действовали заодно, распорядившись, чтобы доктор ближе познакомился с вестибюлем, приватной лестницей и верхними комнатами особняка.
Не успела Фифин выпорхнуть из его рук, как Дезире неожиданно почувствовала себя плохо. Одержимая бесами девочка обладала редким даром притворства. Привлеченная соблазнами внимания и снисходительности, она решила, что болезнь полностью соответствует ее вкусам, и улеглась в постель. Юная актриса играла хорошо, а мадам Бек еще лучше: ясно понимая суть дела, она держалась с поразительно естественной серьезностью и озабоченностью.
Куда больше меня удивило, что и доктор Джон (именно так молодой англичанин научил Фифин его называть, и все мы быстро привыкли к этому имени) молча согласился разделить тактику мадам принять участие в ее маневрах. Да, он действительно пережил момент комического сомнения, несколько раз быстро перевел взгляд с ребенка на мать, погрузился в недолгое размышление, но в конце концов любезно исполнил отведенную ему роль. Дезире ела с отменным аппетитом, день и ночь скакала в кровати, возводила палатки из простыней и одеяла, по-турецки восседала среди подушек и подушечек, но любимым развлечением было швыряние туфель в бонну и гримасничанье с сестрами. Короче говоря, все в ней поражало отменным здоровьем и необузданной энергией. Успокаивалась хулиганка исключительно во время ежедневного визита матушки и доктора. Я знала, что мадам была рада любой ценой удержать дочь в постели, чтобы избавиться от неприятностей и свести к минимуму наносимый ею ущерб, но каким образом доктор Джон не уставал от притворства?
Изо дня в день под вымышленным предлогом он являлся с неизменной пунктуальностью. Мадам встречала его со столь же неизменной услужливостью, столь же ослепительной любезностью и столь же восхитительно сфальсифицированной тревогой за ребенка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные лекарства и проницательно, с тонким пониманием смотрел на мать. Мадам Бек принимала насмешливые взгляды без возражений и обид – для этого ей вполне хватало здравого смысла. Хоть молодой доктор и казался чересчур мягким, презирать его было невозможно. Сговорчивость явно не служила цели заслужить расположение и благодарность хозяйки дома. Он высоко ценил работу в пансионате и, таким вот странным образом продляя пребывание на рю Фоссет, держался независимо и почти небрежно, хотя часто выглядел задумчивым и погруженным в себя.
Хоть тайна его поведения меня и не касалась, равно как и ее природа, однако обстоятельства заставляли смотреть, слушать и делать выводы. Доктор позволял за собой наблюдать, обращая на меня ровно столько внимания и придавая моему присутствию столько значения, сколько обычно ожидает особа моей внешности: иными словами, не больше, чем замечают привычные предметы мебели, стулья работы заурядного мастера и ковры с неброским узором. Часто в ожидании мадам он задумывался, улыбался, смотрел или слушал, как мы это делаем, когда рядом никого нет. Я же тем временем могла беспрепятственно размышлять о его внешности и манерах, пытаясь разгадать значение особого интереса и необычной привязанности – в соединении с сомнением, странностью и необъяснимым подчинением неведомому, но властному колдовству. Что притягивало его к этому монастырю, спрятанному в плотно застроенном сердце столицы? Кажется, доктор Джон решил, что у меня нет глаз, ушей, ума…
Все бы так и оставалось, если бы однажды, когда он сидел на солнце, а я любовалось цветом его волос, бакенбард и здоровым румянцем, яркий свет не выявил красоту с почти угрожающей силой. Помню, что мысленно сравнила сияющую голову с «золотым образом» фараона Навуходоносора. Внезапно внимание мое властно привлекла новая идея. По сей день не представляю, как долго и с каким выражением я на него смотрела: удивление и мгновенная убежденность заставили забыться. В себя я пришла, лишь заметив, что внимание его ожило и поймало мое неподвижное отражение в маленьком овальном зеркале, прикрепленном к стене оконной ниши. С помощью этого нехитрого устройства мадам Бек шпионила за гуляющими в саду обитательницами дома. Несмотря на веселый, сангвинический темперамент, доктор обладал долей нервной чувствительности, приводившей в замешательство под прямым пытливым взглядом. Немало меня удивив, он повернулся и произнес хоть и вежливо, но в то же время сухо и раздраженно, даже с упреком:
– Мадемуазель меня не щадит. Я не настолько самоуверен, чтобы вообразить, что ее внимание привлечено моими достоинствами. Наверняка присутствует некий недостаток. Можно ли спросить, какой именно?
Как, должно быть, предположил читатель, я пришла в замешательство, но вовсе не от непоправимого смущения. Понятно, что упрек был вызван не опрометчивым проявлением восхищения и не предосудительным любопытством. Ничего не стоило тут же объясниться, однако я этого не сделала, а промолчала, не имея привычки разговаривать с этим человеком. Позволив, таким образом, думать все, что угодно, и в чем угодно меня обвинять, я снова взялась за оставленную работу и не подняла головы до его ухода. Существует извращенное состояние ума, при котором неправильное понимание не раздражает, а, напротив, успокаивает. Там, где нам не дано быть верно понятыми, полное отсутствие внимания доставляет удовольствие. Разве случайно принятый за грабителя честный человек не испытывает скорее интерес, чем обиду и раздражение?
Глава XI
Комната привратницы
Стояло лето, было очень жарко. Жоржетта, младшая дочь мадам Бек, подхватила лихорадку. Фифин и внезапно выздоровевшая Дезире были срочно отправлены в деревню, к бабушке, чтобы не заразились. Теперь потребовалась настоящая медицинская помощь. Игнорируя возвращение доктора Пиллюля, который вот уже неделю как был дома, мадам Бек уговорила его английского конкурента продолжить визиты. Некоторые из пансионерок жаловались на головную боль, да и другими симптомами также слегка разделяли болезнь Жоржетты. Я подумала, что теперь-то доктор Пиллюль наверняка вернется к исполнению обязанностей: благоразумная директриса вряд ли осмелится пригласить к ученицам такого молодого мужчину как доктор Джон, однако выяснилось, что бесстрашная жажда приключений возобладала над благоразумием. Она представила доктора Джона школьному отделению пансионата, после чего поручила его заботам и гордую красавицу Бланш де Мелси, и ее подругу – тщеславную кокетку Анжелику. Как мне показалось, доктор Джон проявил некоторое удовлетворение этим знаком доверия, и если сдержанность манер могла оправдать поступок мадам, то он был в полной мере оправдан. Однако здесь, в стране монастырей и исповедален, его появление в pensionat de demoiselles[62] не могло остаться безнаказанным. Школа сплетничала, кухня шепталась, город подхватил слухи, родители писали гневные письма и приезжали, чтобы выразить протест. Если бы мадам Бек проявила слабость, то немедленно пропала бы: соперничающие заведения были готовы лицемерно одобрить этот ошибочный шаг – если считать его ошибочным – и тут же ее погубить, – но она осталась тверда. Когда я наблюдала за ее уверенным, компетентным поведением, искусным управлением, выдержкой и твердостью, сердце мое аплодировало этому маленькому иезуиту и кричало «браво!».
Встревоженных родителей она встречала с добродушным, легким изяществом. Никто не мог сравниться с ней то ли в обладании, то ли в изображении некой rondeur et franchise de bonne femme[63], которая в ряде случаев немедленно достигала полного успеха там, где не помогли бы ни суровая важность, ни серьезное рассуждение.
«Ce pauvre Docteur Jean! Ce cher jeune homme! Le meilleur créature du monde!»[64] – восклицала мадам, усмехаясь и весело потирая полные маленькие ладошки, а потом объясняла, что доверяет ему даже собственных дочерей, которые обожают его так, что впадают в истерику, когда им предлагают другого доктора. У нее самой нет никаких сомнений, и такого же спокойствия ждет она от других. Au reste[65], это всего лишь самое временное из всех возможных средств. Бланш и Анжелика пожаловались на головную боль; доктор Джон выписал рецепт. Voilà toute![66]
Таким образом мадам Бек сумела успокоить родителей, а Бланш и Анжелика избавили ее от дальнейших волнений, дуэтом во всеуслышание воспевая достоинства доктора Джона. Другие ученицы вторили им, заявляя, что, если заболеют, будут лечиться только у него и ни у кого другого. Мадам смеялась. Родители радовались. Должно быть, жители Лабаскура обладают огромным чадолюбием: потворство капризам отпрысков развито в них до невероятных размеров, а их воля стала для большинства семей законом. Как следствие мадам Бек заслужила репутацию по-матерински доброй начальницы и вышла из противостояния победительницей: в городе стали ценить еще выше и ее саму, и пансионат.
До сих пор до конца не понимаю, с какой целью она так рисковала собственными интересами ради доктора Джона. Конечно, сплетни мне хорошо известны: все вокруг говорили, что она намерена выйти за него замуж. Разница в возрасте никого не смущала: рано или поздно это должно было произойти.
Следует признать, что события не опровергали столь смелое предположение. Мадам явно старалась продлить присутствие молодого привлекательного доктора в своем заведении, совершенно позабыв о бывшем протеже Пиллюле. Она неизменно лично присутствовала при визитах доктора Джона, причем всякий раз держалась жизнерадостно, игриво и благодушно. Более того, теперь мадам одевалась особенно тщательно: утренняя небрежность – ночной чепец, халат и шаль – была забыта. Ранние визиты доктора Джона неизменно заставали ее во всеоружии: с аккуратно уложенными волосами, в шелковом платье и элегантных ботиночках с кружевной отделкой вместо домашних тапочек. Молодой доктор лицезрел настоящую светскую даму, к тому же свежую, как утренний цветок. И все же не думаю, что намерения ее простирались дальше стремления доказать привлекательному мужчине, что она вовсе не дурнушка, махнувшая на себя рукой. Без красоты лица и элегантности фигуры она тем не менее не выглядела отталкивающе и без молодости с ее веселой грацией казалась жизнерадостной. Она не вызывала тоски при взгляде на нее: никогда не казалась занудной, вялой, бесцветной или скучной. Всегда яркие каштановые волосы, спокойные голубые глаза, сияющие здоровым румянцем щеки доставляли каждому умеренное, но неизменное удовольствие.
Действительно ли она лелеяла мечту выйти за доктора Джона, привести в свой со вкусом обставленный дом, разделить с ним сбережения, достигавшие, по слухам, значительной суммы, и до конца жизни обеспечить ему достойное существование? Подозревал ли об этом сам доктор Джон? Я замечала, что он выходил от нее с лукавой полуулыбкой на губах, со взглядом, полным разбуженного и удовлетворенного мужского тщеславия. При всей своей доброте и привлекательности, безупречным он не был, скорее напротив, если поощрял намерения, в успех которых не верил. Но не верил ли? Поговаривали, что он беден и целиком зависит от щедрости своих пока немногочисленных пациентов. Мадам, хотя и была старше его лет на четырнадцать, принадлежала к тому женскому типу, который никогда не стареет, не вянет и не сохнет. Они явно хорошо ладили: возможно, он и не был влюблен, но много ли людей в этом мире любят или хотя бы вступают в брак по любви? Мы ждали развязки.
Чего ждал доктор Джон, не знаю, как не знаю, что его вообще интересовало, но совершенно особенная манера, настороженный, бдительный, напряженный, увлеченный взгляд не покидали его, а, напротив, со дня на день только усиливались. Он никогда не находился всецело в границах моей проницательности, даже, думаю, со временем все больше выходил за ее пределы.
Однажды утром маленькая Жоржетта, почувствовав себя хуже, раскапризничалась и никак не желала успокаиваться. Я предположила, что прописанная микстура не пошла ей на пользу, усомнилась, следует ли продолжать прием, и с нетерпением ждала доктора, чтобы посоветоваться.
Послышался звонок, и доктора впустили (в этом я не сомневалась, услышав, как он здоровается с привратницей). Обычно он сразу поднимался в детскую: шагал через три ступеньки, приятно удивляя нас быстротой появления, – однако прошло пять минут, десять, а спасителя не было ни видно, ни слышно. Что могло произойти? Не исключено, он все еще был внизу, в холле. Маленькая Жоржетта продолжала плакать и жалобно просить о помощи:
– Минни, Минни, мне очень плохо!
(Так она называла меня.)
Сердце мое не выдержало, и я спустилась узнать, почему доктора до сих пор нет и куда он запропастился. Может, беседует с мадам в столовой? Нет, невозможно: я оставила ее в будуаре одеваться к визиту. Кроме того, столовая была одной из трех комнат, где занимались на фортепиано ученицы (еще две – большая и малая гостиные). Между ними и коридором находилась лишь комната привратницы, смежная с гостиными и изначально предназначенная для отдыха. Несколько дальше целый класс из дюжины голосов упражнялся в исполнении баркаролы (кажется, так они ее называли). До сих пор помню слова «fraîchë brisë, Venisë»[67]. Что можно было услышать в таком шуме? Оказалось, что очень многое, если бы только это оказалось кстати.
Да, из комнаты привратницы доносилось кокетливое женское хихиканье, причем у самой двери, возле которой я стояла, к тому же чуть приоткрытой. Мягкий, глубокий мужской голос умоляюще произнес несколько слов, из которых я уловила лишь восклицание: «Ради бога!» Затем, после секундной паузы, из-за двери показался доктор Джон. Глаза его сияли, но не радостью или торжеством, на бледной английской щеке горел рукотворный румянец, а лицо хранило растерянное, встревоженное, полное муки и все же нежное выражение.
Распахнутая дверь послужила мне укрытием, но даже если бы я оказалась на пути, он бы прошел мимо, не заметив. Душой его владели унижение и острое раздражение. Но если вспомнить непосредственное впечатление, то переживания следует описать как печаль и сознание несправедливости. Тогда мне показалось, что не столько пострадала его гордость, сколько были ранены чувства – причем ранены жестоко. Но кто же осмелился так его обидеть? Кто из обитавших в доме существ держал его в своей власти? Мадам, кажется, оставалась в своей спальне. Та комната, откуда с разбитым сердцем вышел доктор, принадлежала исключительно привратнице Розин Мату – безнравственной хорошенькой маленькой французской гризетке: беспечной, ветреной, модной, тщеславной и корыстной. Не могла же ее рука подвергнуть доктора столь суровому наказанию?
Пока я терялась в догадках, сквозь приоткрытую дверь донесся чистый, хотя и немного резкий, голос, с удовольствием исполнявший легкую французскую песенку. Не веря своим ушам, я заглянула. Мадемуазель Мату сидела за столом в милом платье из розового батиста и подшивала изящный кружевной чепчик. Кроме привратницы, в комнате не было ни единой живой души, если не считать золотой рыбки в стеклянном шаре, нескольких цветков в горшках и веселого июльского солнца.
В этом и заключалась проблема, однако я должна была поспешить наверх, чтобы спросить о микстуре.
Доктор Джон сидел у постели Жоржетты, а мадам стояла рядом. Маленькая пациентка, уже осмотренная и успокоенная, тихо лежала в кроватке. Когда я вошла, мадам Бек рассуждала о здоровье самого доктора: говорила о реальной или воображаемой перемене внешности, упрекала в переутомлении и рекомендовала отдых на свежем воздухе. Молодой человек выслушал нотацию добродушно, но с насмешливым безразличием, и ответил, что она trop bonne[68]: чувствует он себя прекрасно. Мадам обратилась ко мне, и доктор Джон проследил за ее движением медленным взглядом, отразившим ленивое удивление интересом к столь незначительному мнению.
– Что вы думаете, мисс Люси? Разве доктор не выглядит бледным и худым?
В присутствии доктора Джона я редко произносила что-нибудь длиннее одного слога: неизменно оставалась тем пассивным, незаметным существом, которым он меня и считал, – сейчас, однако, набралась смелости и ответила развернутой фразой, причем намеренно наполнила ее глубоким смыслом.
– В эту минуту доктор действительно выглядит нездоровым, но, возможно, по какой-то временной причине: не исключено, что месье взволнован или раздражен.
Не могу сказать, как он воспринял высказывание, поскольку ни разу не взглянула ему в лицо. В этот момент Жоржетта на своем ломаном английском попросила стакан eau sucrée[69]. Я ответила ей по-английски. Кажется, впервые за все время доктор заметил, что я чисто говорю на его родном языке. До этого он принимал меня за иностранку, обращался «мадемуазель» и по-французски давал указания относительно лечения ребенка. Он явно собрался что-то сказать, однако передумал и промолчал.
Мадам возобновила советы. Доктор покачал головой, со смехом встал и попрощался вежливо, однако с рассеянным видом человека, утомленного избытком нежелательного внимания.
Как только он ушел, мадам упала на освободившийся стул и положила подбородок на руку. Оживление и дружелюбие мгновенно улетучились: сейчас она выглядела окаменевшей, суровой, почти униженной и печальной. Из груди вырвался единственный, но глубокий вздох. Громкий звонок провозгласил начало утренних занятий. Она встала. Проходя мимо туалетного стола с зеркалом, взглянула на свое отражение. В каштановых прядях блеснул единственный седой волос, и она, вздрогнув, вырвала его. В ярком летнем свете было ясно видно, что все еще сохранившее румянец лицо утратило и свежесть, и четкие очертания молодости. Ах, мадам! Даже такую мудрую женщину, как вы, слабость не обошла стороной. Прежде я никогда не жалела мадам Бек, но в ту минуту, когда она мрачно отвернулась от зеркала, сердце мое дрогнуло. Ее постигла катастрофа. Ведьма по имени Разочарование приветствовала вызывающим ужас салютом, а душа отвергала искренность.
Но Розин! Мое недоумение не поддается описанию. В тот день я пять раз прошла мимо комнаты привратницы в надежде обнаружить ее чары и постичь секрет влияния. Она была веселой, хорошенькой, всегда красиво одевалась. Полагаю, рассмотренная в философском ключе, сумма этих достоинств смогла бы объяснить агонию отчаяния, постигшую молодого доктора Джона. И все же в глубине души родилось смутное желание, чтобы он был моим братом или хотя кого-нибудь, кто по-доброму бы его отчитал. Я говорю «смутное», потому что не дала желанию проясниться и стать отчетливым, вовремя осознав его абсолютную глупость. Кто-нибудь наверняка может точно так же отчитать мадам за молодого доктора. Но какая от этого польза?
Полагаю, мадам Бек сама строго себя отчитала, поскольку не проявила малодушия и не выставила на посмешище свою минутную слабость. К счастью, ей не пришлось преодолевать сильные чувства, испытывать боль и горечь разочарования. Правда и то, что в ее жизни присутствовало важное занятие – настоящий бизнес, способный заполнить время, отвлечь мысли и рассеять нежелательный интерес. И особенно существенно то, что она обладала истинным здравым смыслом, большинству несвойственным. Объединившись, эти качества позволили ей вести себя с мудрым достоинством, как подобает леди. И снова браво, мадам Бек! Я увидела, что вы способны бороться с пристрастием. Вы достойно приняли бой и победили!
Глава XII
Шкатулка
За домом на рю Фоссет располагался сад – для центра города очень большой и, как мне помнится, необыкновенно роскошный. Однако время, как и расстояние, оказывает на впечатление смягчающее действие: там, где повсюду лишь камень, голые стены и раскаленная мостовая, драгоценным кажется даже единственный кустик, а крохотный кусочек земли предстает восхитительно уютным и зеленым!
Традиционно считалось, что в давние времена дом мадам Бек был монастырем и в прошлом – не берусь сказать, насколько далеком, но думаю, что несколько веков назад, – прежде чем город поглотил вспаханные земли и аллею, лишив обитель должного религиозного уединения, на этом месте случилось внушившее страх и породившее ужас событие. Особняк заслужил репутацию дома с привидениями. Ходили слухи, что иногда по ночам в окрестностях появляется призрак монахини в черно-белом одеянии. Должно быть, история родилась еще несколько веков назад, поскольку сейчас повсюду стояли дома, однако о существовании монастыря напоминали освящавшие место огромные древние фруктовые деревья. Одно из них – груша, – несколько ветвей которой продолжали преданно ронять душистый снег весной и сладкие как мед плоды осенью, представляло собой истинного Мафусаила. Если разгрести заросшую мхом землю среди полуобнаженных корней, можно было увидеть плиту – гладкую, твердую и черную. Неподтвержденная и непроверенная, но упорно повторяемая легенда гласила, что это вход в склеп, где в скрытой под зеленой травой и яркими цветами мрачной, безысходной глубине покоятся кости девушки, за нарушение клятвы заживо похороненной безжалостным средневековым монашеским орденом. Ее тень пугала слабых духом даже через столетия после того, как бедное тело превратилось в прах. Лунный свет и дрожащие на ветру причудливые тени рисовали в воспаленном воображении черное одеяние и белое покрывало.
Старинный сад очаровывал и сам по себе, независимо от романтических глупостей. Летом я вставала пораньше, чтобы в одиночестве насладиться утренней свежестью; летними вечерами любила прийти на свидание с восходящей луной, ощутить легкий поцелуй ветерка или скорее вообразить, чем почувствовать, влагу выпадающей росы. Земля вокруг была покрыта буйной растительностью, белела усыпанная гравием дорожка, вокруг старинных фруктовых деревьев с сухими верхушками радостно сияли солнечные цветы настурции. В тени пышной акации стояла большая беседка, но было и еще одно, более уединенное убежище, спрятанное среди виноградных лоз, упорно тянувшихся по высокой серой стене, сплетавшихся причудливыми узлами и в щедром изобилии спускавшихся к излюбленному месту, чтобы встретиться и соединиться с жасмином и плющом.
Не приходится сомневаться, что в разгар дня, когда школа мадам Бек впадала в неистовство, а пансионерки и приходящие ученицы вырывались на волю, чтобы помериться силой легких, ног и рук с обитателями соседнего мужского коллежа, сад превращался в изрядно затоптанное и помятое место. Однако на закате или в час вечерней молитвы, когда экстерны расходились по домам, а пансионерки спокойно занимались своими делами, я с удовольствием гуляла по тихим аллеям, прислушиваясь к мягкому, возвышенному перезвону колоколов церкви Святого Иоанна Крестителя.
Однажды вечером я дольше обычного задержалась в сгущающихся сумерках, очарованная глубоким спокойствием, щедрой прохладой, душистым дыханием, которым в отсутствие солнца цветы благодарно отвечали на утешение росы. Свет в окне часовни подсказал, что католическое сообщество уже собралось на вечернюю молитву – обряд, который я, как протестантка, время от времени позволяла себе пропустить.
«Останься еще на пару мгновений, – послышался шепот уединения и летней луны. – Сейчас все везде спокойно, так что с четверть часа твое отсутствие никто не заметит. Суета жаркого дня так утомительна. Насладись же драгоценными минутами тишины!»
Дальняя сторона сада была ограничена длинным рядом зданий, представлявших собой пансионаты соседнего колледжа. Ряд этот, однако, повернулся к нам сплошной черной стеной за исключением нескольких узких, похожих на бойницы щелей под крышей, обозначавших каморки женской прислуги, а также единственного окна, по слухам, отмечавшего кабинет или спальню директора. Однако, несмотря на абсолютную безопасность, аллея, что тянется параллельно очень высокой стене этой части сада, была объявлена запретной для учениц (l’allée défendue[70]), и нарушительница рисковала подвергнуться наказанию настолько серьезному, насколько допускали мягкие правила заведения мадам Бек. Учителя могли гулять здесь беспрепятственно, однако, поскольку аллея была узкой, а запущенные кусты разрослись с обеих сторон и вверх, образовав почти непроницаемую для солнца крышу из веток и листьев, уголок этот редко привлекал внимание даже днем, а по вечерам и вообще оставался безлюдным.
С первых дней я испытывала искушение нарушить общепринятое правило: уединенность и даже сумрак аллеи привлекали меня. Долгое время сдерживала боязнь показаться странной, однако постепенно все вокруг начали привыкать ко мне и к свойственным моей натуре особенностям – не настолько ярким, чтобы кого-то заинтересовать, и не настолько резким, чтобы оскорбить. Мало-помалу я осмелела и превратилась в постоянную обитательницу этой узкой таинственной тропинки, а потом и вовсе взяла на себя обязанности садовника: позаботилась о пробивавшихся между кустами бледных цветах; убрала опавшую листву, скрывавшую простую скамейку в дальнем конце аллеи; попросила у кухарки Готон ведро воды и жесткую щетку и отчистила ее поверхность. Мадам Бек увидела меня за работой и, одобрительно улыбнувшись – не знаю, насколько чистосердечно, – воскликнула:
– Voyez-vous, comme elle est propre, cette demoiselle Lucie? Vous aimer donc cette allée, Meess?[71]
– Да, – ответила я. – Здесь спокойно и прохладно.
– C’est juste![72] – воскликнула она добродушно и любезно позволила проводить в тихом уголке столько времени, сколько захочется, добавив, что наблюдение за дисциплиной не входит в мои обязанности, а потому нет необходимости гулять вместе с ученицами.
Единственное условие: я должна позволить ее детям приходить сюда, чтобы беседовать со мной по-английски.
Тем вечером я сидела на отвоеванной у листьев, грибов и плесени уединенной скамейке, прислушиваясь к тому, что казалось далекими звуками города. Честно говоря, далекими они не были, так как школа располагалась в центре: за пять минут можно было дойти до парка, а меньше чем за десять – до роскошных, похожих на дворцы зданий. Совсем близко шумели широкие, залитые ярким светом улицы, по ним грохотали экипажи, торопясь доставить публику на балы и в театры. Тот самый час, который в нашем монастыре требовал отхода ко сну, гасил все лампы и опускал полог каждой кровати, призывал остальной неугомонный город к праздничному веселью, однако я не задумывалась об этом контрасте. Стремление к развлечениям было чуждо моей натуре. Ни бала, ни оперы я никогда не видела, хотя представление о них имела по рассказам и даже не прочь была посмотреть, однако особенно не стремилась. Это было всего лишь спокойным интересом к чему-то новому.
На небе уже появилась луна, но не полная, а в виде тонкого молодого месяца. Я заметила ее сквозь переплетенные над головой ветви. Луна и россыпь звезд не казались странными там, где все остальное представало чуждым: их я знала с детства. В давно минувшие дни, в доброй старой Англии, я видела, как золотой серп с темной сферой в изгибе сияет на синем небесном своде возле лохматого колючего куста точно так же, как сейчас сиял возле величественного шпиля в этой континентальной столице.
О, мое детство! Сколько чувств рождало оно! Как бы пассивно я ни жила, как бы мало ни говорила, какой бы холодной ни выглядела, воспоминания о былом переполняли душу. В отношении настоящего следовало быть стоиком; в отношении будущего – такого, какое ждало меня, – мертвецом. В оцепенении и ледяном трансе я старательно сдерживала врожденную живость натуры.
Хорошо помню все, что могло взволновать в то время. Например, некоторые природные явления вызывали едва ли не ужас, потому что пробуждали чувства, которые я упорно подавляла, и рождали крик отчаяния, который не могла себе позволить. Однажды ночью разразилась страшная гроза. Внезапный ураган заставил нас вскочить с постелей. Католички в панике упали на колени и принялись молиться своим святым. На меня же стихия подействовала неожиданно властно: я ощутила внезапное возбуждение и острую потребность жить. Встала, оделась, вылезла в находившееся возле кровати окно и села на выступ, поставив ноги на крышу прилегающего, но более низкого, здания. Было мокро, ветрено, холодно, абсолютно темно и очень страшно. В общей спальне все в ужасе собрались вокруг ночника и продолжали неистово молиться. Я не могла к ним присоединиться: настолько непреодолимым оказался восторг бури – черной, громыхавшей такие оды, каких язык никогда не дарил и не подарит человеку, – настолько великолепной, хотя и жуткой, предстала картина рассеченных, пронзенных ослепительно-белыми вспышками облаков.
Тогда и еще целые сутки потом я страстно мечтала, чтобы что-то вырвало меня из нынешнего существования, увело вперед и вверх. Эту мечту, как и все прочие желания подобного рода, следовало убить на месте. В переносном смысле я сделала с ней то же самое, что Иаиль сотворила с полководцем Сисарой[73]: вогнала в висок острый кол, – однако, в отличие от Сисары, мечта не умерла. Пронзенная колом, она время от времени судорожно вздрагивала. Тогда виски начинали кровоточить, а мозг мучительно возвращался к жизни.
В этот вечер я не чувствовала себя ни убийственно жестокой, ни безысходно несчастной. Мой Сисара спокойно лежал в шатре, погрузившись в забытье. А если сквозь дремоту пробивалась боль, нечто вроде ангела или идеала опускалось рядом на колени, умащало виски бальзамом и подносило к закрытым очам магическое зеркало, сладкие, торжественные видения которого повторялись в снах и простирали отражение одеяний и залитых лунным светом крыльев над пронзенным воином, над шатром, над всем окружающим пейзажем. Непреклонная Иаиль сидела поодаль, слегка сожалея об участи пленника, но куда больше предаваясь верному ожиданию мужа Хевера. Этим ветхозаветным образом я хочу показать, что мирная прохлада и сладостная, росистая свежесть вечера вселили в мою душу надежду: не какое-то конкретное представление, а обобщенное чувство бодрости и сердечной легкости.
Разве не должно было это настроение – такое приятное, спокойное, непривычное – предвещать добро? Увы, ничего хорошего оно не принесло! Очень скоро ворвалась грубая реальность, а зло предстало во всей своей отталкивающей лживости.
Среди абсолютной тишины каменных зданий, деревьев и высокой стены внезапно раздался звук скрипнувшей оконной рамы (все окна здесь представляют собой рамы и держатся на петлях). Прежде чем я успела поднять голову и увидеть, где, на каком этаже и кем было открыто окно, дерево над головой качнулось, словно что-то его задело, а потом это «что-то» упало к моим ногам.
Часы на церкви Святого Иоанна Крестителя пробили девять. День угасал, однако тьма еще не наступила. Молодая луна помогала плохо, но яркая позолота в той точке неба, где скрылось солнце, и кристальная ясность обширного пространства над ней продлили летние сумерки. Даже в моей темной аллее можно было, выбрав место между деревьями, прочитать начертанное мелким почерком письмо, так что упавший предмет – шкатулку из слоновой кости – я без труда рассмотрела. Крышка сама открылась в моей ладони. Внутри оказались фиалки, скрывавшие плотно сложенный клочок розовой бумаги: записку, адресованную Pour la robe grise[74], на мне же было светло-серое платье.
Прекрасно. Было ли это послание billet-doux[75]? О подобных вещах я, конечно, слышала, но до сих пор не имела чести видеть и тем более держать в руках. Неужели именно это ценное изобретение человечества я сжимала между указательным и большим пальцами?
Вряд ли. О такой чести я даже не мечтала. Ни один поклонник не фигурировал в моих мыслях. Все учительницы грезили о неких любовниках, а одна (излишне доверчивая) даже думала о будущем муже. Все ученицы старше четырнадцати лет знали, что когда-нибудь у них появятся женихи, а две-три и вовсе были с детства обручены по решению родителей. Однако вторгаться в царство открывавших подобные перспективы чувств и надежд мои размышления, а тем более предположения, никогда не осмеливались. Если другие учительницы выходили в город, гуляли по бульварам или хотя бы посещали мессу, то непременно (как они потом рассказывали) встречали кого-нибудь из представителей противоположного пола, чей острый, заинтересованный взгляд свидетельствовал о силе произведенного впечатления. Никак не могу сказать, что мой опыт в этом отношении мог сравниться с опытом коллег. Я ходила в церковь, гуляла, но абсолютно уверена, что никто и ни разу не обратил на меня внимания. На рю Фоссет не было ни единой девушки или женщины, которая не могла бы с гордостью заявить (и не заявляла), что встречала восхищенный взгляд голубых глаз нашего молодого доктора. И только я должна честно признаться, как бы унизительно это ни звучало, что составляла исключение: по отношению ко мне голубые глаза оставались спокойными и равнодушными. Так и получилось, что я слушала разговоры учениц и коллег, часто удивлялась их веселью, бесстрашию и довольству собой, однако ни разу не попыталась поднять голову и посмотреть вперед – на ту тропу, по которой они так уверенно шли. Итак, в моих холодных руках оказалась вовсе не мне адресованная любовная записка. Развернув ее, я немедленно убедилась в этом. И вот что прочла:
«Ангел моей мечты! Тысяча, тысяча благодарностей за то, что исполнили обещание: едва ли я отваживался надеяться на его осуществление. Честно говоря, считал, что вы шутите. К тому же замысел казался вам таким опасным, час – неподходящим, а аллея – уединенной. Больше того, по вашим словам, там часто гуляет дракон – английская учительница. Une véritable bégueule Britannique à ce que vous dites – espèce de monstre, brusque et rude comme un vieux caporal de grenadiers, et revêche comme une reе́ligieuse[76]».
Надеюсь, читатель простит скромность в представлении этого лестного описания моего милого образа под легкой вуалью чужого языка.
«Вам известно, что из-за болезни маленького Густава перевели в комнату директора – ту самую, окно которой смотрит в сад вашей тюрьмы, – а я, как лучший в мире дядя, получил позволение навещать племянника. С каким трепетом я подошел к окну и заглянул в ваш Эдем – рай для меня, хотя и пустыню для вас! Как боялся увидеть пустоту или упомянутого дракона! И вот сердце затрепетало от восторга, когда сквозь просвет между завистливыми ветвями увидел проблеск изящной соломенной шляпки и волну серого платья, которое узнаю среди тысячи. Но почему же, ангел мой, вы не посмотрели вверх? Жестоко отказывать страждущему в единственном луче обожаемых глаз! Как бы оживил меня краткий взгляд! Пишу в жаркой спешке: пока доктор осматривает Густава, пользуюсь возможностью, чтобы вложить послание в маленькую шкатулку вместе с букетиком сладчайших цветов – и все же не столь сладких, как вы, моя пери, мое очарование!
Вечно ваш – сами знаете кто!»
«Хотелось бы знать, кто это», – сказала я себе, имея в виду не столько автора, сколько адресата этого нежного послания. Возможно, оно написано женихом одной из обрученных учениц? В таком случае особого вреда оно не принесет и может считаться лишь некоторым отступлением от правил. У многих – если ли не у большинства – девушек в соседнем коллеже учились братья или кузены, однако признаки la robe grise, le chapeau de paille[77] – сбивали с толку. Соломенная шляпа – это обычный головной убор, такие носят все обитательницы школы, включая меня. Серое платье тоже едва ли проясняло ситуацию. В тот период и сама мадам Бек носила серое платье, а кроме того, одна из учительниц и три пансионерки купили платья, почти не отличавшиеся от моего. Такой повседневный наряд тогда соответствовал моде.
Теряясь в догадках, я поняла, что пора возвращаться. Свет в окнах спальни свидетельствовал о том, что молитва закончена и ученицы ложатся спать. Через полчаса все двери закроются, а свет погаснет, но пока дверь в сад оставалась открытой, чтобы впустить в душное здание прохладу летней ночи. Из комнаты привратницы выбивался свет лампы, позволяя увидеть длинный коридор, с одной стороны которого располагалась двустворчатая дверь гостиной, а замыкала перспективу импозантная парадная дверь.
Внезапно раздался короткий звонок – скорее даже осторожное звяканье, нечто вроде предупреждающего металлического шепота. Розин выбежала из своей комнаты и бросилась открывать, потом с тем, кого впустила, минуты две беседовала. Видимо, они о чем-то спорили или что-то вызвало недоумение. С лампой в руке Розин подошла к двери в сад, остановилась на пороге и, высоко подняв лампу, зачем-то посмотрела по сторонам, потом кокетливо рассмеялась:
– Quel conte! Personne n’y a été[78].
– Позвольте пройти, – взмолился знакомый голос. – Прошу всего пять минут!
Знакомая фигура, высокая и, по мнению всех обитательниц рю Фоссет, чрезвычайно представительная, вышла из дома и зашагала среди клумб и кустов. Произошло святотатство: вторжение мужчины в сокровенное пространство, да еще в столь поздний час, – однако месье определенно считал, что занимает привилегированное положение, и, возможно, верил в спасительную темноту. Он медленно шел по аллеям, внимательно смотрел по сторонам, заглядывал под кусты, неосторожно мял цветы и ломал ветки. Когда он добрался наконец до запретной аллеи, я его встретила и, должно быть, напугала:
– Доктор Джон, не трудитесь: вещь уже найдена.
Он не спросил кем, поскольку уже заметил у меня в руке шкатулку, лишь произнес, глядя на меня и правда как на дракона:
– Не выдавайте ее.
– Даже будь я склонна к предательству, все равно не смогла бы выдать то, чего не знаю, – заверила я. – Прочитайте записку, и сразу поймете, как мало в ней чего-то конкретного.
«Возможно, он уже читал», – подумала я, хотя по-прежнему не верила, что он мог писать подобные банальности. Вряд ли это его стиль. Кроме того, мне хотелось думать, что он не стал бы обзывать меня такими словами. Внешний вид доктора подтверждал мои сомнения: читая послание, он покраснел и покрылся испариной, – да и реакция последовала соответствующая:
– Действительно, это уж слишком! Жестоко и унизительно.
Увидев, что молодой человек глубоко взволнован, я тоже решила, что ситуация неприятно обострилась: не важно, виноват он или нет. Очевидно, что кто-то виноват куда больше.
– Как вы поступите? – спросил доктор Джон. – Расскажете о находке мадам Бек и устроите en esclandre?[79]
Я считала, что должна рассказать, в чем тут же призналась, добавив, что вряд ли мадам будет поднимать шум: слишком она осмотрительна, чтобы допустить в своем заведении распространение сплетен столь сомнительного свойства.
Доктор задумчиво смотрел на меня, но был слишком горд и честен, чтобы умолять сохранить все в тайне, поскольку долг требовал огласки. Я же хотела поступить правильно, однако боялась расстроить его или – что еще хуже – подвести. В этот миг Розин выглянула в открытую дверь. Нас она видеть не могла, а вот я отчетливо видела ее в просвет между деревьями: на ней было серое платье, похожее на мое. В сочетании с недавними событиями это обстоятельство подсказало, что случай, хотя и прискорбный, не требовал от меня немедленного вмешательства, поэтому я предположила:
– Если вы готовы подтвердить, что ни одна из учениц мадам Бек не замешана в этой истории, буду счастлива остаться в стороне от любых действий. Возьмите шкатулку, цветы и записку. Я же, со своей стороны, с радостью забуду о происшествии.
– Смотрите! – внезапно прошептал доктор Джон, прижимая к груди все, что я ему отдала, и одновременно указывая на кусты.
Я обернулась и увидела бесшумно спускавшуюся с крыльца мадам Бек. В шали, халате и домашних тапочках она, подобно кошке, осторожо вышла в сад и уже через пару минут наверняка разоблачила бы доктора Джона, но если мадам напоминала кошку, то джентльмен в такой же мере походил на леопарда: ничто не могло сравниться с легкостью его движений и походки, если он того желал. Он дождался, когда директриса завернет за угол, и в два бесшумных прыжка пересек сад и, когда она снова появилась, уже бесследно исчез: Розин помогла, мгновенно закрыв дверь между ним и его преследовательницей. Я тоже имела шанс устраниться, однако предпочла открыто встретить опасность.
Обладая всем известной привычкой гулять в саду в сумерки, до сих пор я никогда не задерживалась так поздно. Не сомневаясь, что мадам вышла меня искать, я ожидала выговора, но ничего подобного не произошло: ни единого упрека, ни даже тени удивления. Мадам источала доброту и со свойственным ей тактом, недостижимым ни для одного другого живого существа, даже призналась, что всего лишь вышла насладиться la brise du soire[80].
– Quelle belle nuit![81] – воскликнула она, глядя на звезды, так как к этому времени луна уже скрылась за высокой колокольней церкви Иоанна Крестителя. – Qu’il fait bon? Que l’air est frais![82]
Вместо того чтобы отослать меня прочь, она пригласила вместе пройтись по главной аллее, а на обратном пути даже чуть прильнула к моему плечу, чтобы опереться, поднимаясь по ступенькам парадного крыльца. При расставании щека ее оказалась возле моих губ.
– Bon soir, ma bonne amie; dormez bien![83]
Лежа в кровати без сна и предаваясь размышлениям, я внезапно осознала, что улыбаюсь. Да, улыбку вызвало поведение мадам. Елей и обходительность манер ясно показывали тому, кто ее знал, что в изощренном мозгу копошится некое подозрение. Сквозь щель или с вершины горы, сквозь спутанные ветки деревьев или открытое окно она, несомненно, уловила намек, далекий или близкий, обманчивый или поучительный, на события того вечера. Учитывая непревзойденное мастерство мадам в искусстве наблюдения, было практически невозможно допустить, чтобы кто-то незаметно бросил в ее сад шкатулку или смог проникнуть кто-то посторонний, чтобы найти опасную вещицу. По легкому трепету ветки, мгновенной тени, необычному звуку шагов или едва слышному бормотанию (хотя несколько обращенных ко мне слов доктор Джон произнес очень тихо, тембр мужского голоса, должно быть, распространился по всей монастырской территории) мадам Бек не могла не заподозрить, что на ее территории происходит нечто экстраординарное. Что именно, в тот момент она не могла знать, однако восхитительно запутанная интрига непреодолимо искушала, требуя разгадки. Выйдя на охоту, разве она не поймала и не опутала паутиной неуклюже вовлеченную в интригу, случайно оказавшуюся на пути мисс Люси – глупую наивную муху?
Глава XIII
Несвоевременное чихание
Меньше чем через сутки после описанной выше небольшой комедии представился новый повод для улыбки и даже для смеха.
Климат в Виллете такой же неустойчивый, хотя и не столь влажный, как в любом из английских городов. За мягким, тихим закатом последовала ветреная ночь, а весь следующий день оказался темным, облачным, но не дождливым: бушевала сухая буря. Ветер кружил по улицам принесенный с бульваров песок вперемешку с пылью. Не думаю, что даже чудесная погода снова вдохновила бы меня на вечернюю прогулку. Моя аллея, как, впрочем, и остальные дорожки и кусты сада, приобрела новый, отнюдь не приятный интерес. Уединенность стала сомнительной, а спокойствие показалось ненадежным. Окно, откуда летели записки, лишило прелести еще недавно милый уголок. Возникло впечатление, что глаза цветов обрели зрение и пристально наблюдают, а неровности на стволах деревьев внимательно прислушиваются ко всему, что происходит вокруг. Некоторые растения пострадали от ног доктора Джона во время его торопливых небрежных поисков. Мне захотелось поднять их, полить и вернуть к жизни. Он оставил следы и на клумбах, однако, несмотря на ветер, я успела устранить улики рано утром, прежде чем кто-либо успел их обнаружить. Ну а вечером, когда ученицы занялись приготовлением уроков, а учительницы – рукоделием, в задумчивом умиротворении села за стол, чтобы посвятить час-другой немецкому языку.
Etude de soire[84] неизменно проходили в столовой – помещении намного меньшем любой из трех классных комнат. Сюда допускались только пансионерки, которых насчитывалось всего полтора десятка. Над двумя длинными столами с потолка свисали две лампы. Зажигали их в сумерках, и свет означал, что пора отложить учебники, принять серьезный вид и прекратить разговоры. Наступало время для lecture pieuse[85]. Как скоро выяснилось, это занятие представляло собой благотворное подавление интеллекта, полезное унижение разума и такую дозу тоскливого здравого смысла, какую ученица могла усвоить в час досуга и применить с наибольшей пользой.
Книга (одна и та же, ее никогда не меняли, а читали заново) представляла собой достопочтенный том – древний, как мир, и серый, как покрытая плесенью стена старинного замка.
Я была готова отдать два франка за возможность подержать том в руках, перелистать пожелтевшие священные страницы, прочитать название и собственными глазами увидеть ту грандиозную ложь, которую, как недостойный еретик, могла лишь озадаченно слушать. Книга содержала легенды о святых. Боже милостивый (восклицаю с глубоким почтением), что это были за легенды! Какими же хвастливыми мошенниками были эти католические святые, если бахвалились такими подвигами или изобретали подобные чудеса! Легенды, однако, представляли собой всего лишь достойный затаенной насмешки монашеский вздор. Помимо них, в книге присутствовали и рассуждения священников, причем эта часть была еще лицемернее монашеской. Уши пылали, когда поневоле приходилось внимать историям о чинимых Римом моральных муках. Больно было слушать бесстыдные похвалы в адрес нарушивших обет молчания исповедников – вероломных изменников, повергших в позор высокородных дам, превративших графинь и княгинь в самых несчастных рабынь на свете. Истории, представлявшие собой кошмар угнетения, нужды и агонии, подобные рассказу о Конраде и Елизавете Венгерской[86], снова и снова повторялись во всей своей ужасной порочности, отвратительной тирании и черной нечестивости.
Несколько вечеров подряд я из последних сил терпела эти религиозные чтения и сидела тихо (лишь однажды отломила концы своих ножниц, неосознанно воткнув их слишком глубоко в источенную короедом столешницу), но в конце концов они так дурно повлияли на мое самочувствие: пульс участился, а сон нарушился, – что терпеть далее я не могла. Благоразумие требовало освобождать столовую от своего присутствия в тот самый момент, когда появлялась невыносимая старинная книга. Моз Хедриг никогда не испытывала столь же острой потребности свидетельствовать против сержанта Босуэла[87], как я стремилась выразить свое мнение относительно папского религиозного чтения, но мне как-то удавалось обуздать порыв. Хотя всякий раз, как только Розин приходила, чтобы зажечь лампы, я поспешно убегала из комнаты, все-таки старалась это не афишировать, пользуясь небольшой суматохой перед мертвой тишиной и незаметно исчезая в ту минуту, когда ученицы убирали книги.
Сбежав, я всегда оказывалась в темноте. Носить по дому свечу не разрешалось, так что покинувшей столовую учительнице приходилось довольствоваться темным холлом, темной классной комнатой или такой же темной спальней. Зимой я выбирала длинные классы, где можно было, шагая из конца в конец, согреться. Хорошо, если светила луна, а если на небе появлялись одни лишь звезды, приходилось довольствоваться их тусклым мерцанием или вообще мириться с полной темнотой. Летом света было намного больше. Тогда я поднималась наверх и проходила в свой уголок просторной спальни, открывала окно (в этой комнате их было пять – широких и высоких, словно двери), выглядывала как можно дальше и подолгу любовалась раскинувшимся за садом городом, прислушиваясь к доносившейся из парка или с дворцовой площади музыке, погружаясь в собственные мысли, проживая невидимую жизнь в безмолвном, полном теней мире.
В этот вечер, спасаясь, как обычно, от папы римского и его писаний, я поднялась по лестнице, подошла к спальне и тихо открыла всегда плотно затворенную дверь – подобно всем остальным дверям в доме бесшумно вращавшуюся на заботливо смазанных петлях, – и хотя ничего не увидела, сразу почувствовала, что в обычно пустой просторной комнате теплится жизнь. Не то чтобы ощущалось движение или дыхание, слышался шорох или звук – нет: просто отсутствовала пустота, не хватало одиночества. Все белые кровати – «lits d’ange»[88], как их поэтично называли, – с первого взгляда просматривались насквозь и пустовали. Никто не отдыхал. Слух мой уловил звук осторожно выдвигаемого ящика. Я слегка отступила в сторону, чтобы опущенные шторы не заслоняли обзор, и увидела свою кровать и туалетный стол с запертой рабочей шкатулкой на нем и несколькими запертыми ящиками.
Вот так сюрприз! Невысокая плотная фигура в благопристойной шали и изящном кружевном чепце стояла перед моим столом и усердно трудилась – очевидно, оказывая мне услугу в наведении порядка в ящиках стола. Крышка шкатулки была уже открыта, а ящики методично, один за другим, отпирались и выдвигались, каждая вещица в них была поднята и развернута, каждая бумажка просмотрена, каждая коробочка открыта. Обыск производился с непревзойденной ловкостью и образцовой аккуратностью. Мадам действовала, как профессиональный сыщик – четко и скрупулезно. Не могу отрицать, что наблюдала за ней как завороженная. Будь я джентльменом, мадам наверняка заслужила бы особую благосклонность точностью, ловкостью и элегантностью своих действий. Случается, чьи-то действия раздражают своей беспорядочной неуклюжестью, но каждое мановение ее рук радовало опрятной экономностью. Я все стояла и стояла, хотя давно следовало разрушить чары и незаметно исчезнуть, пока мадам не обернулась и не заметила меня, дабы избежать неловкой сцены. Мгновенно разрушились бы все условности, пали все покровы. Мне не осталось бы ничего иного, кроме как прямо взглянуть в ее глаза, а ей – так же прямо посмотреть в мои. Стало бы ясно, что работать вместе мы больше не сможем, и пришлось бы расстаться навсегда.
Так навлекать на себя катастрофу? Я не злилась и не испытывала ни малейшего желания ссориться с мадам Бек. Где найти другую госпожу, чье иго показалось бы таким же легким и необременительным? Я действительно ценила мадам за основательный ум (независимо от того, что думала по поводу ее принципов), а что касается принятой в школе системы шпионажа, то мне тайные досмотры совершенно не вредили. Мадам Бек могла копаться в моих вещах, сколько душе угодно; все равно ничего бы не вышло. Нелюбимая, без малейшей надежды на любовь, своей сердечной бедностью я была надежно защищена от любых обысков, как нищий защищен от воров пустотой своих карманов, поэтому бесшумно удалилась, спустившись по лестнице со стремительной легкостью паука, бежавшего рядом по перилам.
Оказавшись в классной комнате, я наконец-то позволила себе рассмеяться, поскольку не сомневалась, что мадам Бек видела в саду доктора Джона, и даже знала, о чем подумала. Хлопоты мнительной особы, так глубоко обманутой собственными измышлениями, изрядно меня развеселили. И все же, едва смех иссяк, душу охватило подобие гнева: камень раскололся, и из него хлынули воды Мариба[89]. Никогда еще не испытывала я такого глубокого смятения, как в тот вечер: обида и смех, огонь и печаль владели моим сердцем с равной силой, я плакала горючими слезами: не потому, что мадам Бек мне не доверяла (ее доверие не стоило ни пенса), – но по другим причинам. Тревожные, запутанные мысли разбили и без того неустойчивый мир одинокой души. И все же постепенно буря утихла. На следующий день я снова стала прежней Люси Сноу.
Проверив ящики, я обнаружила, что все они надежно заперты. Самое пристальное исследование не смогло бы заподозрить изменений или нарушений в положении какой-либо вещи. Даже платья были сложены точно так, как я их оставила. Маленький букетик белых фиалок, однажды молча преподнесенный на улице незнакомцем (ибо мы не обменялись ни единым словом), который я засушила и ради аромата положила в складки своего лучшего платья, остался нетронутым. Черный шелковый шарф, кружевные манишки и воротнички лежали точно так же, как прежде. Если бы мадам помяла хотя бы одну вещицу, мне было бы труднее ее простить, но, обнаружив в ящиках полный порядок, я сказала себе: «Кто старое помянет, тому… Мне не причинили вреда. Так зачем же таить зло?»
Меня чрезвычайно озадачивало, и я искала ключ к разгадке в собственном мозгу почти так же усердно, как мадам Бек в моих ящиках полезные сведения. Если доктор Джон непричастен к метанию шкатулки в наш сад, то каким образом узнал об этом, раз столь быстро появился? Стремление понять не давало покоя, и я даже подумала, почему бы не воспользоваться возможностью и не обратиться за разъяснением к самому доктору Джону.
В его отсутствие я даже верила, что наберусь смелости и спрошу. Малышка Жоржетта пошла на поправку, так что визиты врача стали редкими. Думаю, они прекратились бы совсем, если бы мадам не настояла на необходимости наблюдения за дочерью, пока та не выздоровеет окончательно.
Однажды вечером она зашла в детскую сразу после того, как я выслушала молитвенный лепет Жоржетты и уложила ее в постель, и, взяв дочку за руку, проговорила:
– Cette enfant a toujours un peu de fièvre[90]. – И тут же, бросив на меня быстрый взгляд, что было ей совершенно несвойственно, спросила: – Le docteur John l’a-t-il vue dernièrment? Non, n’est pas?[91]
Не стоит сомневаться, что ответ на свой вопрос мадам прекрасно знала.
– Что же, – продолжила она. – Я собираюсь выйти, pour faire quelque courses en fiacre[92]. Пошлю за доктором Джоном и передам, чтобы он осмотрел ребенка. Пусть непременно приедет сегодня же: у Жоржетты опять жар, а пульс чаще, чем нужно, – но вам придется принять его вместо меня.
На самом же деле девочка чувствовала себя хорошо: всего лишь немного перегрелась на июльской жаре, – так что посылать за доктором и требовать лекарство не было необходимо. К тому же мадам редко совершала courses[93], как она это называла, по вечерам. И уж конечно, впервые решилась пропустить визит доктора Джона. Все эти обстоятельства прямо указывали на существование некоего тайного плана. Я это понимала, однако принимала без тени тревоги. «Ха-ха, мадам! – смеялось нищее, а потому беззаботное сердце. – Ваш хитрый ум направился по ложному следу».
Она отбыла при полном параде: с дорогой шалью на плечах и в светло-зеленой шляпе, убийственной для менее свежего лица оттенка, но в данном случае вполне приемлемой. Я пыталась разгадать замысел: действительно ли она пошлет за доктором Джоном, и если да, то приедет ли он.
Мадам приказала не давать Жоржетте уснуть до осмотра, поэтому пришлось без конца рассказывать ей всякие истории и болтать о пустяках. Я любила Жоржетту, ласковую, чувствительную девочку, с удовольствием держала на коленях и обнимала, а сегодня она попросила положить голову на ее подушку и даже обвила руками шею. Безыскусные детские ласка и искренность, с которыми она прижалась щекой к щеке, едва не стоили мне слез сладкой боли. Этот дом не изобиловал чувствами, поэтому чистая маленькая капля из чистого маленького источника подействовала с неожиданной силой: проникла в душу, покорила сердце и обожгла глаза горячей влагой. Так прошло полчаса, потом еще полчаса. Жоржетта пробормотала, что хочет спать. «И уснешь, – подумала я, – malgré maman and médicin[94], если он не появится через десять минут.
Но вот раздался звонок, и тут же на лестнице послышались быстрые легкие шаги, преодолевавшие сразу несколько ступенек. Розин объявила о приходе доктора Джона, после чего в свободной манере, свойственной не столько лично ей, сколько всему Виллету, осталась, чтобы услышать его заключение. Присутствие мадам немедленно прогнало бы консьержку обратно в собственное царство вестибюля и крохотной комнатки под лестницей, в то время как ни меня, ни остальных учительниц и учениц она ни во что не ставила. Смышленая, хорошенькая и нахальная, она стояла, засунув руки в карманы кокетливого передника, и смотрела на доктора Джона, испытывая не больше страха и смущения, чем если бы тот был нарисованным, а не живым джентльменом.
– Le marmot n’a rien, nest се pas?[95] – осведомилась она, кивнув в сторону Жоржетты.
– Pas beaucoup[96], – последовал ответ, пока доктор выписывал карандашом какой-то безвредный рецепт.
– Eh bien![97] – продолжила Розин и, как только он убрал карандаш, подошла совсем близко. – А коробочка? Вы ее нашли? Прошлым вечером месье промелькнул, как coup-de-vent[98]; я даже не успела спросить.
– Да, нашел.
– А кто же тогда бросил? – совершенно свободно спросила Розин, тогда как мне не хватало решимости и мужества.
До чего же легко одни люди приходят к цели, которая другим кажется непостижимой!
– Возможно, это мой секрет, – ответил доктор Джон коротко, но без тени высокомерия, поскольку, очевидно, уже хорошо знал характер самой Розин или гризеток вообще.
– Mais enfin[99], – продолжила мадемуазель Мату, ничуть не смутившись, – месье знал, что ее бросили, поскольку пришел искать. Откуда?
– Осматривая маленького пациента из соседнего колледжа, – терпеливо пояснил доктор, – увидел, как из окна его комнаты кто-то бросил шкатулку, и поспешил на поиски.
Как просто! Действительно, в записке упоминался доктор, который пришел к Густаву.
– Ah ça![100] – воскликнула Розин. – Il n’y a donc rien là-dessous: pas de mistère, pas d’amourette, par exemple?[101]
– Pas plue que sur ma main[102], – ответил доктор, показывая пустую ладонь.
– Quel dommage![103] – воскликнула гризетка. – Et moi – à qui tout cela commençait à donner des idées[104].
– Vraiment! Vous en êtes pour vos frais[105], – холодно заметил доктор.
Розин обиженно надулась, и он не смог сдержать смех: настолько забавной показалась ее недовольная гримаса. В его внешности сразу появилось что-то искреннее и добродушное. Я заметила, как рука потянулась к карману, а потом он спросил:
– Сколько раз за последний месяц вы открывали мне дверь?
– Месье должен и сам знать, – с готовностью ответила Розин.
– Как будто у меня нет других дел! – возразил доктор, отдавая золотую монету, которую привратница приняла без сомнений и сразу поспешила выйти, чтобы открыть дверь: звонки раздавались каждые пять минут – слуги приезжали забирать полупансионерок.
Читатель не должен думать о Розин дурно. В целом она вовсе не плохая – просто не видела ничего постыдного в том, чтобы получить от жизни все, что можно, равно как не ощущала неудобства, когда трещала словно сорока с лучшим джентльменом христианского мира.
Из этой сцены я вынесла кое-что еще, помимо территориальной принадлежности шкатулки из слоновой кости, а именно: не батистовое платье – розовое или серое – и даже не передник с оборками и карманами разбили сердце доктора Джона. Эти предметы гардероба оставались такими же невинными, как крошечная синяя кофточка Жоржетты. Тем лучше. Но кто же преступница? Где скрывалось обоснование, происхождение, начало всей истории? Некоторые аспекты прояснились, но сколько вопросов еще осталось без ответа!
«Однако тебя это совсем не касается», – остановила я себя. Отвернулась от лица, на котором бессознательно сосредоточила задумчивый взгляд, и посмотрела в выходившее в сад окно. Доктор Джон тем временем стоял у детской кроватки, надевая перчатки и наблюдая за маленькой пациенткой, чьи веки медленно смежались, а розовые губки приоткрывались в подступающем сне. Я ждала, когда он уйдет, на прощание быстро поклонившись и невнятно пожелав доброго вечера. В тот самый момент, когда доктор взял шляпу, мой взгляд, сосредоточенный на высоких домах за садом, уловил, как осторожно открылось уже известное окно. Сквозь щель высунулась рука с белым платком и помахала. Не знаю, последовал ли ответ на сигнал из невидимого окна нашего дома, однако из окна напротив тут же вылетело что-то белое и легкое: несомненно, очередное послание.
– Вон там! – невольно воскликнула я.
– Где? – быстро уточнил доктор и энергично шагнул ближе. – Что такое?
– Это повторилось: оттуда помахали платком и что-то бросили. – Я показала на окно, теперь уже закрытое и лицемерно пустое.
– Бегите сейчас же, поднимите и принесите! – поспешно приказал доктор Джон и добавил: – На вас никто не обратит внимания, а меня сразу заметят.
Я повиновалась и после недолгих поисков, обнаружив на нижней ветке куста сложенный листок бумаги, схватила его и принесла доктору. Думаю, в этот раз меня не заметила даже Розин.
Не прочитав и даже не развернув записку, он разорвал листок на мелкие кусочки и строго произнес:
– Помните, что здесь нет и тени ее вины.
– Чьей вины? – уточнила я. – О ком вы говорите?
– Значит, до сих пор ничего не знаете?
– Абсолютно ничего.
– И даже не догадываетесь?
– Ничуть.
– Будь я знаком с вами ближе, рискнул бы довериться, тем самым заручившись вашей заботой о существе сколь невинном и прекрасном, столь же неопытном.
– В качестве дуэньи? – спросила я.
– Да, – рассеянно ответил доктор Джон и задумчиво добавил, впервые внимательно посмотрев мне в лицо в надежде встретить выражение сочувствия, которое позволило бы доверить моей опеке некое эфемерное создание, против которого строят козни темные силы: – Какие капканы ее окружают!
Я не испытывала особого стремления к наблюдению за эфемерными созданиями, но вспомнила, что в долгу перед доктором за проявленное внимание, поэтому если могла чем-то помочь, то не имела права отказывать, а чем именно и как – решать не мне. Подавив внутреннее сопротивление, я заверила его, что готова сделать все возможное.
– Я заинтересован исключительно как наблюдатель, – подчеркнул доктор с восхитительной, как мне показалось, скромностью. – Мне довелось быть знакомым с довольно беспринципным человеком, который уже дважды нарушал святость вашей обители (встретились в светском обществе). Казалось бы, изысканное превосходство и внутреннее изящество молодой особы должны были раз и навсегда пресечь любую дерзость, но, к сожалению, это не так, поэтому я готов защищать невинное простодушное создание от возможного зла. Сам я ничего сделать не могу, потому что не смею к ней приблизиться.
– Что же, готова помочь вам в этом благородном деле, – заверила я. – Только скажите, как именно.
Мысленно представив всех обитательниц заведения, я попыталась определить, кто же это сокровище, и решила, что, должно быть, речь идет о мадам Бек: лишь она одна превосходит всех нас. Вот только что касается неопытности, отсутствия подозрительности и прочего, то на этот счет доктору Джону не следует заблуждаться. Но если уж ему так хочется думать, то противоречить я не собираюсь: пусть верит в светлый образ, пусть его ангел остается ангелом.
– Просто обозначьте объект моей заботы, – продолжила я серьезно, но мысленно усмехнулась: неужели придется опекать саму мадам Бек или одну из ее учениц?
Надо сказать, доктор Джон, обладавший тонкой душевной организацией, сразу обнаружил то, что для более грубого сознания прошло бы незамеченным, а именно: я слегка над ним потешаюсь. Покраснев и с неловкой полуулыбкой отвернувшись, он взял шляпу, собираясь уйти. Сердце мое дрогнуло, и я заверила поспешно:
– Непременно вам помогу: сделаю все, что пожелаете. Буду оберегать вашего ангела, неустанно о нем заботиться, если скажете, кто это.
– Но вы и сами должны знать, – сказал он едва слышно. – Она сама безупречность, доброта, к тому же красавица! Невозможно, чтобы в одном доме была еще одна волшебная фея. Речь, конечно же…
Договорить он не успел: ручка двери комнаты мадам Бек, открывавшейся в детскую, неожиданно щелкнула, как будто державшая ее рука слегка дернулась, и послышался сдавленный звук неудержимого чихания. Подобные маленькие неприятности порой случаются с каждым из нас. Оказалось, что мадам вовсе не покинула наблюдательный пост, а, тихо вернувшись домой, на цыпочках пробралась наверх и притаилась в своей комнате. Если бы не эта неприятность, то узнала бы все не только я, но и она. Однако что случилось, то случилось: пока он стоял с ошеломленным видом, мадам Бек распахнула дверь и вошла в комнату быстро, собранно, но в то же время спокойно. Любому, кто не был знаком с местными обычаями, и в голову бы не пришло, что по меньшей мере десять минут она стояла, прижав ухо к замочной скважине. Демонстративно чихнув, мадам заявила, что enrhumée[106]




















