Читать онлайн Лев Бакст, портрет художника в образе еврея бесплатно
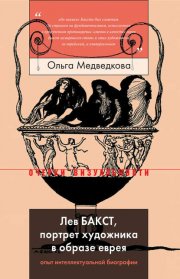
Филиппу, как всё и как всегда
Я хотела бы выразить глубокую благодарность людям, тем или иным образом помогавшим мне при написании этой книги: Владимиру Береловичу, Селье Бернаскони, Мартине Денуаэль, Ларисе Волохонской, Юлии Добровольской, Галине Ельшевской, Анне Жуковской, Джульет Карэ, Пьеру Кэ, Леле Кантор-Казовской, Григорию Казовскому, Александру Кларич, Антону Козлову, Филиппу Мальгуиру, Мартин Малински, Димитрию Озеркову, Зинаиде Перегудовой, Ричарду Пивиэру, Юлии Подороге, Ирине Прохоровой, Татьяне Рахмановой, Илье Родову, Татьяне Сенкевич, Ирине Стаф, Татьяне Сиракович, Анатолию Ярхо. Отдельная, посмертная благодарность и память Веронике Шильц, собеседнице, советчице, близкому другу, скончавшейся 4 февраля 2019 года, с которой мы столько раз обсуждали проблемы, поставленные в этой книге.
Мы ведь все-таки результат прошлых существований, и невозможно совершенно оторвать себя от цепи… В лучшем случае мы достигаем противоречия между унаследованной и свойственной нам от рождения натурой и нашей познавательной способностью. Мы создаем новые привычки, новый инстинкт, новую натуру, под влиянием которой отмирает старая. Это как бы попытка создать себе апостериори прошедшее, из которого человеку хотелось бы происходить в противоположность тому, из которого он происходит на самом деле. Иногда победа удается, и тогда получается странное утешение – знать, что и первая натура была когда-то второй и что, одерживая победу, вторая натура становится на самом деле первой.
Фридрих Ницше.О пользе и вреде истории для жизни
Предисловие
«Почти бывшее, желанное»
Перед тем как приступить к повествованию, я должна провести читателя за кулисы этой книги и посвятить его в некоторые технические аспекты моего ремесла историка художественных идей, занимающегося личностью и жизнью отдельного человека, художника. Ибо книга эта написана в жанре, быть может, не совсем привычном – не монографии, а именно биографии, понятой не как популярный, сниженный исторический жанр, близкий не столько даже литературе, сколько журнализму и ориентированный на быстрое потребление, а как одно из ответвлений микроистории, области, в которой я работаю[1]. Речь пойдет о первой попытке реконструировать интеллектуальную биографию русско-французского художника еврейского происхождения Льва Бакста (1866–1924). Не выгляжу ли я наивно, утверждая это в отношении мастера с мировой славой, о котором написано множество книг, начиная с тех, что появились при его жизни, и заканчивая совсем недавними многочисленными трудами и исследованиями? Несомненно. И тем не менее я на этом настаиваю. По моему мнению, биография Бакста – в том смысле, в котором я понимаю этот жанр, с его пристальным вниманием к источникам, с их критикой и постановкой в теоретически связный контекст, – еще не написана. Главное препятствие к этому заключается в относительной бедности архивных документов и в невероятном богатстве источников, до сих пор полностью не опубликованных, рассеянных по свету, целенаправленно ориентированных, автобиографических или близких к эго-документу, написанных под влиянием «заинтересованного лица».
Ибо Бакст не только сам написал значительное количество писем, разнообразных текстов, статей о своем искусстве и об искусстве других, а также воспоминания и роман, – он еще и вдохновил своих друзей и знакомых на написание книг о себе, продиктовав добрую их часть. Между скудностью архивов и лавиной эго-документов зияет провал. С точки зрения методологической вопрос можно сформулировать так: стоит ли, и если да, то как, писать биографию художника, оставившего, пусть даже в рассеянном виде, свою автобиографию, которая заведомо формирует его посмертный образ?
В отношении художников ХХ века это вопрос отнюдь не праздный. Подобного рода проблема возникала у меня при работе над биографией Кандинского (1866–1944), современника Бакста и, несмотря на формальную разницу их произведений, во многом его парадоксального альтер эго[2]. Как и Бакст, Кандинский был автором и вдохновителем солидного корпуса эго-документов, написанных им самим или под его более или менее прямую диктовку. Последние источники наиболее сложны для интерпретации. В отношении к этим текстам инстинкт осторожности у историка слабеет. Как будто ненамеренно забывает он проверить факты, и дело кончается тем, что разноречивые или даже противоречивые данные удобно принимают преднамеренную форму.
Такие «салаты оливье», сдобренные воспоминаниями членов семьи, наименее пригодны к употреблению. А между тем именно ими и начинены все без исключения – в том числе и совсем недавние – книги, посвященные Баксту[3]. Моя первая задача состояла, стало быть, в том, чтобы просеять известные факты через сито классической критики исторических источников и составить рассказ о жизни Бакста, наиболее точный и честный, не из педантства – ведь речь идет иногда о важных, а иногда о довольно незначительных уточнениях, – а потому, что это разногласие, эта размолвка между архивом и авто-фикцией открывают невероятно богатое эвристическое пространство. Если существует относительно личности Бакста некий подлинный источник, его символическим местом хранения является не архив и не сумма эго-документов, а именно это пространство между ними, именно этот пробел между двумя типами свидетельств: между тем, что произошло, и тем, что Бакст об этом рассказал, между правдой голых фактов и само-легендой.
Познакомившись с замыслом Бакста написать автобиографический роман, его старинная подруга Зинаида Гиппиус (1869–1945) дала ему такой совет: «Да, да, именно „не выдумывать историй“, а что-то вспоминать свое, бывшее или почти бывшее, – желанное…»[4]. Заимствуя у Гиппиус это тонкое выражение, я бы сказала, что жизнь Бакста, та, что была им самим написана или продиктована и с тех пор повторена более или менее близко к тексту всеми исследователями его жизни и творчества, является таким именно рассказом о «почти бывшем», то есть проекцией[5]. Сравнивая последнюю с метрикой, нотариальным актом и другими сухими свидетельствами, которые использует – встраивая их в их родной контекст – историческая наука, это «почти» всплывает на поверхность и обнажает свои контуры. Территория «почти» и станет объектом моего специального внимания, а мой метод можно будет назвать в связи с этим своего рода биогеографией.
Портрет художника в образе еврея
Так, стало быть, я и намерена действовать, а именно бродить в переулках между действительностью и мечтой, между фактами и рассказом о них, где и сплетается личность Бакста, и формируется его многогранная идентичность. Главной темой моей будет при этом его самопонимание и самоопределение в образе художника-еврея. Используя гипнотическую формулу Джойса – A Portrait of the Artist as a Young Man, – можно сказать, что мой замысел состоит в том, чтобы написать портрет художника Бакста в образе еврея: A Portrait of the Artist as a Jew.
Такой замысел в случае с Бакстом мне кажется не только желаемым, но и исполнимым, что редко бывает с подобного рода замыслами.
Ибо Бакст был не только художником, иллюстратором, портретистом, декоратором, костюмером, но и, повторю, писателем и подлинным интеллектуалом. Он учился – даже если спустя рукава – в хорошей петербургской классической гимназии и в Академии художеств, дружил и переписывался с крупнейшими русскими и европейскими философами, писателями, общественными деятелями. Он размышлял и писал о своем искусстве, о своей жизни, личности, корнях и – самое удивительное – о своей идентичности художника-еврея. Он рассказал о том, что считал сущностью этой «разновидности», этого воплощения: художника в образе еврея и, наоборот, еврея в образе художника. Драматические перипетии его жизни высвечивали и лепили этот образ, работали на него. Искусство Бакста, будучи на первый взгляд отнюдь не еврейским – в отличие, например, от искусства его ученика Марка Шагала, – по форме и по содержанию было парадоксальным образом задумано, осуществлено и теоретически осмыслено Бакстом именно как еврейское. Но втайне. Как еврейское, но включая в себя все нееврейское, всю культуру, весь мир. Не имеющее на поверхности ничего общего ни с еврейской традицией, ни с религией, ни с фольклором, и именно потому еврейское.
Ибо замысел Бакста был сложным. Он строился на фундаментальном и прирученном противоречии: именно в качестве еврея Бакст намеревался стать и стал художником не еврейским, а универсальным. По его мнению, у еврея для этого имелся специальный набор данных, особый подход, нечто вроде ключа, отмыкающего самый принцип универсальности. Что было, например, еврейского в его программной картине «Античный ужас» (1908) или в эллино-эротическом балете «Послеполуденный отдых фавна» (1912), созданном по мотивам стихотворения Малларме и положившем начало новой истории не только балета, но и западной «телесности», в создании которой Бакст сыграл центральную роль? Внешне ничего. Но и эта картина, и этот балет, основанные на греческом, архаическом наследии, были задуманы, исполнены и описаны Бакстом как «еврейские». Как и почему? Ответ на этот вопрос настолько неочевиден, что задавать его обычно избегают.
Первым и практически единственным, кто осмелился задать его, был французский искусствовед Луи Рео, тесно связанный в начале ХХ века с Россией[6]. Будучи сначала германистом, а потом славистом, Рео стал специалистом по всякого рода влияниям одной национальной культуры на другую и вообще по национальным особенностям в искусстве. В своей статье о Баксте, опубликованной в Нью-Йорке в 1927 году, он писал, что Бакст был первым оказавшим влияние на западную культуру художником из России, страны, которая до того была, по мнению Рео, культурно слабой, импортирующей. Повлиял ли так решительно Бакст на Запад потому, что был наименее русским из русских художников? Кое-кто, писал Рео, может увидеть в этом знак его еврейства. Кто-то, но не Рео. Для Рео подлинное еврейство Бакста проявилось в его дистанции по отношению к любому – и к русскому, и к западному современному – искусству и в его обращении к древности, к греческой архаике: «Несложно догадаться, почему Бакст предпочитает греческую архаику суверенной красоте мраморов Парфенона. Мы не видим в этом дани поверхностному увлечению модой и новизной. Подлинная причина этого предпочтения заключается в том факте, что в Микенах и на Крите искусство было насквозь пропитано восточными влияниями, а подлинной духовной и художественной родиной Бакста был Восток. Вдохновленный чем-то вроде атавистического инстинкта, несомненно укорененного в его семитском происхождении, Бакст с восторгом вдыхал эманацию восточного духа, и, мне кажется, Крит был для него только ступенью на пути в Египет и в Персию»[7]. Нам еще неоднократно придется вернуться к этому прозрению Рео.
Что же касается других исследователей, писавших и пишущих о Баксте, для них бакстовское еврейство по сей день остается расплывчатым «нечто», облаком, возникающим и исчезающим на горизонте, никогда не разражающимся ливнем очевидности. И это несмотря на то, что мы располагаем не только предельно ясными размышлениями самого художника на эту тему, но и необходимыми для их понимания интеллектуальными наработками, которые были сформулированы, в частности, внутри движения еврейской эмансипации, от Моисея Мендельсона до Германа Коэна и Мартина Бубера, от Анны Арендт и Гершома Шолема до Левинаса и Деррида. Понадобятся нам и такие мыслители, как Эрнест Ренан, Фюстель де Куланж, Анри Масперо, Жюль Мишле, Аби Варбург. Что же касается непосредственного контекста, то нам в первую очередь придется обратиться к наследию Ницше, к его русским переводам и интерпретациям, к таким философам и писателям, как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Максимилиан Волошин, со многими из которых Бакст дружил и переписывался.
Речь, конечно, отнюдь не идет о том, чтобы проецировать на Бакста модели, разработанные этими мыслителями. В своей оригинальной творческой своенравности Бакст плохо подчиняется таким манипуляциям. Речь идет скорее о том, чтобы выслушать его с наибольшим вниманием и доверием, имея в виду, что проблемы, которые он решал с таким умным чутьем, ставились и решались до него и одновременно с ним другими, часто его друзьями и собеседниками. Уникальность же Бакста заключается в том, что этими другими были главным образом философы, а отнюдь не художники с «неоконченным высшим образованием».
Вот таким доверчивым, но и проверяющим, и сравнивающим слушаньем Бакста – которого, как мне кажется, недоставало до сих пор – я и собираюсь заняться на страницах этой книги. Речь, стало быть, пойдет не столько об увеличении количества новых биографических фактов и материалов (хотя и с таковыми мне серьезно повезло), сколько об улучшении качества слуха и зрения, понимания и интерпретации слов и мыслей Бакста. А в результате и его пластического языка: как стиля, так и иконографии.
Отчасти недопонимание Бакста связано с его полиглотством. Он прожил две жизни в двух странах – в России и во Франции, – а точнее, в двух столицах, в Петербурге и в Париже, читал как минимум на четырех и писал на двух или трех языках. Как это часто бывает с подобными «межбытийными» личностями[8], сложность его понимания в первую очередь просто-напросто лингвистическая, а затем уже и семантическая, и историко-культурная. Это замечание касается, например, самих слов и понятий: еврей и еврейское.
Вскоре после моего переезда в Париж, тридцать лет назад, я спросила у одной французской подруги с характерной фамилией: «Твои родители евреи?» На что она мне возмущенно ответила: «Они французы!» Действительно, произнося слово «еврей» по-русски или по-французски, мы попадаем в два разных семантических комплекса, сложно между собой перекрещивающихся. В России ни о какой политической или социальной эмансипации евреев до 1917 года говорить не приходится. Лишенное элементарных гражданских прав, еврейское население России жило в черте оседлости, не имея возможности ни владеть землей, ни заниматься рядом профессий. Эти ограничения касались только еврейства религиозного. Стоило еврею креститься, как он получал доступ к основным правам русского православного населения. Крещение евреев то всячески поощрялось, стимулировалось, внедрялось насильственно, то подвергалось ограничениям, и принявшие его подозревались в двуличии. Переход крестившегося еврея обратно в иудаизм до 1905 года был запрещен и строго карался. При этом антисемитизм, распространенный во всех слоях русского общества, от самого низкого до самого изысканного, не отличал выкрестов от евреев.
Во Франции же, где Бакст жил сначала в 1893–1899 годах, затем с 1908-го и окончательно – с 1912 года, французские граждане еврейского вероисповедания уже более века обладали всеми без исключения гражданскими правами. Быть евреем во Франции означало только одно: исповедовать иудаизм. На социальный статус это не влияло. Обращение из иудаизма в христианство, распространенное в Российской империи, а также в Австро-Венгрии, Германии (особенно в Пруссии) и Великобритании[9], во Франции было редким и связанным не с какими-либо гражданскими или полицейскими льготами, а главным образом со смешанными браками. Во Франции семантическая оппозиция «католик – еврей», с общим знаменателем «гражданин французской национальности», соответствовала русской оппозиции «гражданин российской национальности и православный – еврей», без какого бы то ни было общего знаменателя. Единственным мостом между двумя ситуациями – русской и французской – был антисемитизм, который задействовал не религию и не политический статус, а «кровь», то есть набор «национальных» черт, физических и поведенческих[10].
В связи с вышесказанным становится очевидным, что и проблемы еврейской эмансипации артикулируются по-французски и по-русски во многом по-разному, как во времена Бакста ее идеологами, так и сегодня ее историками. Самое простое и корректное для всех – свести разговор о «еврействе» к религии или к фольклору. Но именно в этом отношении Бакст нам не помощник. О своей религиозной практике он распространялся мало, со всей очевидностью считая эту область интимной, закрытой от постороннего взгляда. Мы, по всей видимости, никогда не узнаем, где, как, в какой степени Бакст был религиозным иудеем, и нам следует тактично с этим смириться. Это отнюдь не отменяет еврейскую проблему, а, напротив, помогает верно поставить ее, ибо Бакст прекрасно писал о том, что он сам называл еврейским миросозерцанием и еврейским искусством. И даже если с академической точки зрения такие его размышления могут быть объявлены нонсенсом, они нам будут здесь важнее этой самой точки зрения.
Руководствуясь, стало быть, как пристальным источниковедением (его нам не избежать), так и исторической интуицией[11], мы за Бакстом и последуем, и будем считать и называть «еврейским» то, что он таковым называл, даже если это его «еврейское» больше напоминает греческую архаику, ориентализм или Ренессанс, даже если другие художники его времени использовали сходный эстетический дискурс или визуальный язык, в частности обращение к греческой архаике, никоим образом ни к какому еврейству не отсылая, как, например, делал – правда, несколько позднее Бакста – хорошо знавший его творчество скульптор Бурдель (1861–1929). Ибо этот очередной возврат к античности – спровоцированный, как и прежние, эпистемологическими сдвигами, главным образом связанный с ницшеанством, а также с археологическими откровениями, в частности раскопками Шлимана и Эванса, – был субъективно пережит Бакстом как его собственное открытие, обусловленное его еврейскими корнями.
Историк, следующий за Бакстом, снова оказывается, таким образом, лицом к лицу с «межбытием», на границе между объективностью и субъективностью, и именно в этом пограничном пространстве я, как и было сказано выше, обоснуюсь. Ибо эта заброшенная территория и есть, по моему мнению, пространство еврейской – и, что еще осложняет дело, русско-еврейской – эмансипации.
Коварные источники
Читатель уже понял, что подлинная – и фактическая, и интеллектуальная – жизнь Бакста требует от историка особенной осторожности и чуткости в обращении с источниками. Повторюсь: нам придется читать одновременно, сопоставляя их между собой, с одной стороны, архивные документы, а с другой – многосоставный материал, благодаря которому мы получаем доступ к субъективной легенде, созданной самим художником или его окружением, и который включает в себя, как я уже сказала, теоретические статьи Бакста, его интервью, книгу Серов и я в Греции[12], автобиографический роман Эта жестокая первая любовь (он писал его в конце жизни и не успел опубликовать), а также его обильнейшую, частично опубликованную переписку[13]. Но речь идет также и о богатой литературе о Баксте, которая вышла при его жизни или вскоре после его смерти и на которую он самым непосредственным образом повлиял. До настоящего времени эти источники всегда рассматривались как объективные, особенно ценные тогда, когда они были созданы за границей, то есть в «другой» национальной культуре: в России для западных исследователей и на Западе – для русских. Путаница между источниками объективными и субъективными и является главной причиной многочисленных ошибок в биографии Бакста[14].
Вот, например, заметка «Бакст, Лев Самойлович», опубликованная в 1909 году в третьем томе Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона за подписью Сыркина[15]. Как к ней относиться? Как к содержащей объективную или субъективную информацию? А к множеству других статей и книг, появившихся во Франции, Англии, Германии и Америке в 1912–1930-х годах? С юных лет связанный с издательским миром иллюстратор, как сейчас бы сказали – книжный дизайнер, Бакст использовал печать как один из главных инструментов своей художественной стратегии. Он оформлял русскоязычные журналы Мир искусства, Золотое руно, Аполлон и сам в них печатался; там же публиковали статьи о нем его друзья. А начиная с 1912 года, отмеченного его окончательным отъездом из России, Бакст заявил о себе по-французски. Именно тогда вышел в Париже перевод книги Современный балет, опубликованной в 1911 году в Петербурге. Основного автора книги звали Валерьян Светлов (псевдоним Валерьяна Павловича Ивченко, 1860–1935). Но на титульном листе значилось, что книга издана «при сотрудничестве» Льва Бакста[16].
Писатель и художественный критик, Светлов был балетоманом. Он был сторонником реформы, проведенной в балете Айседорой Дункан (1877–1927), и поддерживал новаторство Михаила Фокина (1880–1942) в Мариинском театре. С самого начала Дягилевских сезонов Светлов стал их активным участником, членом, наравне с Бакстом, специального «комитета», который включал в себя только ближайших друзей и советников Дягилева. О своей дружбе с Бакстом он замечательно рассказал в воспоминаниях, опубликованных в 1927 году[17]. Сохранилась и такая надписанная им фотография: «Дорогому Льву Самойловичу Баксту на память о старой дружбе, общих увлечениях и совместной работе от сердечно любящего его Светлова»[18]. Книга Современный балет была, стало быть, создана двумя соратниками и единомышленниками. Она не только содержала многочисленные виньетки и репродукции произведений Бакста, но и – как мы это позднее увидим – воплощала и его видение эволюции балета со времен античности, и место костюма в этой эволюции.
Книга открывалась свидетельством о невероятном успехе Русских сезонов Дягилева. Этот успех, объяснял Светлов, связан с тем, что русский балет – современен. А современен он потому, что вернулся к природе, к естественности и, значит, к Древней Греции. В этом постулате Светлова мы с легкостью улавливаем множество раз использованную в истории искусства риторику возрождения античности. Начиная с XV века в Европе возвращение к природе и к «естественному» в человеке и в искусстве, а стало быть, к обнаженному телу, было главным аргументом всех, кто проповедовал возрождение античности. Оригинальность же данного текста заключается в том, что в этом возрождении античности в балете, по Светлову – а как нам мыслится, и по Баксту, – роль одежды была решающей. Именно с костюма все и началось: на сцене появилась полуобнаженная, босая женщина без пачки, без трико, без розовых пуантов и стала танцевать естественно, то есть так, как если бы она была не на сцене, а на лужайке. Более того, ее танец, как танец древних греков, снова стал частью какого-то магического ритуала. Так перемена в костюме, а точнее, раздевание привело не только к эстетическому сдвигу, но и к радикальной смене роли танца, его приближению к священнодействию. Эти размышления Светлова были проиллюстрированы в книге эскизом Бакста – его костюмом для еврейского танца из балета «Клеопатра»: самое существо бакстовской концепции как балетного искусства, так и современности, и своей роли в искусстве в качестве еврея здесь было под сурдину проговорено и показано.
Благодаря такому иллюстрированному тексту исследователь получает доступ к словесной артикуляции визуальных образов Бакста. Источник, в котором текст и изображение намеренно помещаются на, условно говоря, смежных страницах, в истории искусства самый нужный, самый верный. Историки искусства, сформированные в русле блестящих откровений Варбургской школы, постоянно охотятся за такими источниками. Бакст же не «случайно», а – как мальчик-с-пальчик – намеренно нам такие тексты-образы оставил. И на примере Современного балета мы уже можем многое понять о том, как именно он действовал.
Годом позже появилась в Париже другая, еще более роскошная, можно сказать экстравагантная, книга на французском языке, титульный лист которой был напечатан в два цвета. На нем значилось: Декоративное искусство Леона Бакста. Критическое эссе Арсена Александра, записки о балетах Жана Кокто[19]. Эта книга одновременно вышла в Лондоне по-английски[20]. Мы не знаем, кто оплатил издание, но можем предположить, что сам Бакст, который в этом году был на вершине славы и продал множество произведений на нескольких выставках. В подарочных экземплярах на обложке золотом был награвирован его рисунок к балету «Нарцисс»: сатир, притаившийся в зелени с дудочкой в руках, – символический автопортрет художника. К этому мы также еще вернемся.
Между двумя авторами этой книги было мало общего. Арсену Александру было 54 года; это был знаменитый художественный критик, создатель журнала Смех, сотрудник Фигаро и Театра. Он был завсегдатаем гонкуровского Чердака, другом Золя и Родена; именно он придумал термин «неоимпрессионизм». Бакста он заметил еще в 1908 году, написав рецензию на его «Античный ужас». А Жану Кокто было всего 24, и он никому практически знаком не был, кроме поклонников Русских сезонов. Он опубликовал к тому времени лишь два сборника стихов. Первый, Лампа Алладина, вдохновленный рассказами Тысячи и одной ночи, появился в 1909 году, то есть именно тогда, когда оформленный Бакстом балет «Шахерезада» с триумфом шел в Париже. В том же 1909-м Кокто опубликовал и шесть номеров литературно-художественного журнала Шахерезада. Он был одним из самых преданных членов Дягилевского кружка. В 1912 году он работал вместе с Бакстом в качестве либреттиста над балетом «Синий бог» на музыку Рейнальдо Хана (1874–1947), одного из модных французских композиторов начала века, уроженца Венесуэлы, немецкого еврея по отцовской линии и интимного друга Пруста. Кокто находился под сильным влиянием не только Русских сезонов в целом, но и в особенности Бакста. В книге Декоративное искусство Леона Бакста он описал десять оформленных художником балетов, не по хронологии, а начиная со своего собственного, с «Синего Бога», за которым следовали «Послеполуденный отдых фавна», «Клеопатра», «Шахерезада», «Нарцисс», «Мученичество святого Себастьяна», «Елена Спартанская», «Дафнис и Хлоя» и, наконец, «Саломея». Эти описания для нас ценны своими поэтическими образами и системой литературных и философских отсылок. Они позволяют проникнуть как в творческий генезис спектаклей, так и в восприятие этих балетов современниками.
За описаниями следуют семьдесят семь (!) литографических воспроизведений с работ Бакста, главным образом с его эскизов костюмов, напечатанных отдельно и наклеенных в книгу на тонированной бумаге с обрамлением – так, чтобы можно было сразу повесить их на стену под стеклом. В подарочных экземплярах книги эти прекрасного качества литографии дополнены еще и тонированием акварелью от руки[21], а в некоторые экземпляры вложена оригинальная акварель[22]. Этой публикацией Бакст не только создал себе великолепный портфолио, но и показал зрителю, как нужно относиться к его «декоративному» (слово, употребленное в названии книги), то есть прикладному, искусству, а именно – как к серьезному. Он показал, как его коллекционировать, оформлять, развешивать. В качестве коллекционных эскизы Бакста должны были привлечь и действительно сразу же привлекли особый тип собирателя, увлеченного рисунком. Этот тип – уже с эпохи Возрождения, с Вазари, а в более близкие Баксту времена во многом под влиянием братьев Гонкур – претендовал на особую рафинированность[23].
Помимо того, Бакст этим изданием зафиксировал определенный корпус своих подлинных произведений. Именно на него мы и станем опираться. Что же касается проблемы атрибуции театральных эскизов Бакста, то она очень сложна, и мы ее здесь касаться не будем. Для того чтобы к ней подойти серьезно, нужно проделать большую подготовительную работу, на которую справедливо указала в своей прекрасной статье Ирина Шуманова[24]. Заметим лишь, что в такой работе было бы отнюдь не бесполезно принять во внимание эти прижизненные репродукции, со всей очевидностью опубликованные Бакстом как эталонные. Ими он в дальнейшем иллюстрировал свои публикации в газетах и журналах, а также программы спектаклей и, наконец, серию публикаций начала 1920-х годов, осуществленных литературным, художественным и балетным критиком Андреем Левинсоном (1887–1933).
В 1922 году Левинсон опубликовал по-немецки в Берлине книгу под названием Леон Бакст. Под другим названием та же книга появилась на английском и французском языках два года спустя[25]. Это издание было так же великолепно, как и книга 1913 года; 345 экземпляров французской версии были напечатаны на разных сортах бумаги и пронумерованы[26]. В том же 1922 году Левинсон опубликовал в Париже книгу Произведения Льва Бакста для Спящей красавицы, также роскошно иллюстрированную[27].
Что же касается английского и французского изданий 1924 года, то они вышли под странным названием История Льва Бакста. Не жизнь и не творчество, а именно «история». Название было интригующим. Что это за «история Бакста»? Но все прояснялось с первых же – довольно высокопарных – строк: история Бакста, писал Левинсон, – это история восхождения, триумфа, история успеха. «Имя Бакста великолепно укрепилось в своей славе. Сколько раз о его мастерстве писали самые знаменитые критики. Говоря сегодня о его вкладе, мы не скажем лучше. Список его побед уже составлен, уникальное влияние, которое он оказал, уже было прозорливо оценено. Тем не менее цель, стоящая перед нами, остается немаловажной. Охваченный энтузиазмом Париж присутствовал при расцвете его искусства. Но именно нам, русским, выпало на долю лицезреть самое волнующее зрелище – зарождение его таланта, видеть сложение личности, которая открывает себя, возникновение стиля, первые тяжкие сражения. Для того чтобы получить полное, синтетическое представление о его творчестве, необходимо реконструировать интимную атмосферу его формирования, материальную и интеллектуальную среду, под влиянием которой оно произошло. Земляк и современник мастера, я дышал одним с ним воздухом, был свидетелем его ранних творений, которые вошли в историю русской живописи и театра. В таковом качестве я и сделаю попытку написать биографию Бакста. Она бы осталась неполной, если бы детство и юность художника в ней не описывались. Что касается этого периода его жизни, я записал рассказы самого Бакста, и их по мере необходимости прокомментировал»[28].
Итак, перед нами прямое свидетельство того, что Бакст стоял за этой книгой, рассказывал Андрею Левинсону о своих детских и юношеских годах. Эти рассказы Левинсон, конечно, ни с чем не сверял и не проверял. И зачем бы он стал это делать? Так Левинсон и опубликовал полуправду-полувымысел о ребенке и юноше Баксте, так и создал ту легенду и запутал ту путаницу, которую никто до сих пор распутать не потрудился. Зачем Баксту это понадобилось? Никто ведь его за язык не тянул, не заставлял рассказывать о том, о чем ему хотелось бы промолчать. Но для человека, родившегося в 1866 году, в век линейной истории[29], успех требовал объяснения; у каждого состоявшегося, сбывшегося явления должны были быть предыстория, начало, корни, происхождение, а значит, и его «протез»: повествование[30]. В противном случае успех ниоткуда, возникновение из мрака, блестящий фасад без фундамента могли быть восприняты как черты выскочки, парвеню, культурного нувориша. Французский успех потребовал русского детства и свидетеля из этого детства, свидетеля, строго говоря, относительного, поскольку – несмотря на его утверждение – «современником» Бакста Левинсон не был, а был его на 21 год моложе. Зато он имел с ним иные точки соприкосновения и настоящей близости.
Левинсон[31] родился в 1887 году в еврейской семье в городе Ковно, где его отец имел медицинскую практику; переехал затем в Петербург, жил неподалеку от Мариинского театра, который рано начал посещать, учился в Петершуле, немецкой школе, одной из лучших в Петербурге, в которой двадцатилетием ранее учились почти все друзья Бакста по Миру искусства. По причине своего еврейства он поступил сначала в Дерптский, но затем перевелся в Петербургский университет, на романо-германское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1912 году, то есть именно тогда, когда Бакст окончательно переехал в Париж. В этом же году он женился на Двойре Либе Шлеймовне Шарф, и вскоре у них родилась дочь Мария[32]. Еще до окончания университета Левинсон начал активно печататься. Он часто ездил в Европу, в Париж, бывал на спектаклях Русских сезонов и писал о них заметки, часто весьма критические[33]. В 1917 году, сдав магистерские экзамены и защитив работу о мемуарах Сен-Симона, он получил место доцента в Петроградском университете. Одним из первых прочитанных им курсов стал курс, посвященный «религиозным учениям в современной французской литературе». В 1917 году вышла в свет его книга Старый и новый балет[34]. До своего отъезда в Эстонию в марте 1920 года Левинсон работал в издательстве Всемирная литература[35] и в Институте истории искусств. В 1921 году он с женой и дочерью переехал в Париж, поселился в 14-м округе, рядом с парком Монсури[36], и почти сразу стал работать в иллюстрированном журнале Comoedia. Специальностью его стали балетные рецензии[37]. Журнал был основан Морисом де Брюнофф (1861–1936[38]), издателем программ и афиш Русских сезонов. Бакст и Брюнофф дружили, переписывались, даже собирались одно время стать деловыми партнерами. Можно легко предположить, что именно Бакст помог Левинсону найти эту работу, а затем воспользовался его французским пером для написания своей биографии[39]. Сам Бакст, хотя и свободно владел французским, прозу свою до конца жизни писал по-русски и, видимо, французскому своему доверял не вполне. Так, в одном из писем неизвестному адресату, датированном 21 декабря 1912 года, он писал: «Прошу меня извинить за то, что я не смог послать Вам раньше этот рассказ о годах моей борьбы (которая продолжается), я был очень занят последнее время. Разумеется, там будут неудачные фразы; будучи иностранцем, я их не замечаю. Будьте любезны, поправьте их – я Вам буду очень благодарен»[40].
Что еще, помимо языка, привлекло Бакста в Левинсоне? Возможно, разделяемое обоими представление о культурной роли эмансипированного еврейства. Именно культурное наследие являлось для обоих тем мостом, по которому евреи могли и должны были войти в современное общество. Благодаря такому родству Левинсон и смог стать не столько биографом, сколько историком жизни Бакста. Поняв логику этой истории, воссозданной им по рассказам Бакста, мы можем одновременно и лучше ее оценить, и правильнее ею пользоваться. Мы можем благодаря ей понять, как Бакст сам выстраивал свою историю, представлял свою судьбу. Многие указания Левинсона открывают нам доступ к другим, неизвестным до сих пор источникам.
Еще одним интереснейшим автором, писавшим, правда, не со слов Бакста, но со слов его близкого друга Вальтера Нувеля (1871–1949), является Арнольд Хаскелл (1903–1980). Он также был балетоманом и практически создателем Британского балета. В юности он работал с Дягилевым, участвовал в Русских сезонах и дружил с Нувелем. Чрезвычайно важные для нашей истории записки последнего – проясняющие несколько моментов в биографии Бакста – стали основой написанной Хаскеллом биографии Дягилева[41].
Прежде чем завершить это предисловие, мне бы хотелось обсудить еще два типа источников. Первый включает всевозможные воспоминания о Баксте, которые я буду использовать с разной степенью доверия, исходя всякий раз из таких параметров, как время их написания, публикации, степень близости мемуариста к Баксту. Несмотря на то что это не принято, я доверяю Воспоминаниям Александра Бенуа (1870–1960)[42], бывшего долгие годы одним из ближайших друзей и соратников Бакста. Ими пренебрегают по той причине, что они писались к концу жизни Бенуа, а также потому, что Бакст и Бенуа в начале 1910-х годов поссорились. Мне же эти воспоминания представляются крайне важными. Бенуа всю жизнь вел дневник, качество которого нам известно[43]. По тому, как детально прописаны Воспоминания, невозможно не предположить, что за ними стоит дневник или по меньшей мере дневниковый принцип, то есть та особая память на детали, которая свойственна пишущим дневники людям; благодаря чему этот текст, созданный главным образом после 1935 года и впервые напечатанный в Нью-Йорке в 1955 году[44], приближается к описываемым в нем событиям. В то же время Бенуа перерабатывал их под конец жизни, когда обиды уже были забыты (друзья помирились, едва Бенуа вернулся в Париж в 1923 году). Глава «Левушка Бакст»[45] в этих воспоминаниях исполнена большой нежности к другу юности. Бенуа рассказывает в ней о том, о чем не рассказывает больше никто, например о ранних замыслах Бакста. Что же касается антисемитизма Бенуа, то он не сильно отличался от общераспространенного, свойственного и другим друзьям Бакста – Гиппиус[46] или Сомову[47]. Как таковой, в своей структуре, нам этот антисемитизм интересен. Бенуа был художником с незаурядными интеллектуальными запросами и способностями. Он был рефлексирующим автором, сознательно и творчески относившимся к работе памяти, к сочетанию в этой работе того, что Гёте называл поэзией и правдой: «…я вовсе не претендую на то, чтобы эти мемуары ‹…› представляли собой вполне надежный исторический материал, писал Бенуа. Совершенно естественно, что Dichtung в них сочетается с Wahrheit. Но все же в основе имеется несомненная Wahrheit (даже при невольно-неточной передаче фактов остается в силе Wahrheit „настроения“, „атмосферы“), а это что-нибудь да значит…»[48]. Благодаря этому Бенуа лучше многих слушал и слышал Бакста и смог донести многие его высказывания, в том числе важные для нас соображения о его художественных поисках. Есть еще одна причина, по которой Воспоминания Бенуа мне кажутся ценными. Я «подозреваю» Бакста в том (то есть сам Бенуа его в этом подозревал), что какую-то часть своих детских воспоминаний, записанных Левинсоном, он нафантазировал, опираясь на детские воспоминания своих друзей Бенуа и Серова: их воспоминания, по сравнению с его собственными, прозаическими, сыграли для него роль расковывающей память поэзии – Dichtung.
Напротив, я отнеслась с осторожностью к воспоминаниям, записанным «со слов бабушки» внучатыми племянниками Бакста, которые принято считать чуть ли не первоисточниками. Свидетельства и тексты Жан-Луи и Стефана Барсака, в частности переведенные на русский язык, являются причиной серьезного количества ошибок в биографии художника, причем ошибок как смысловых, так и фактических[49]. Сын Бакста Андрей (1907–1972) и жена Любовь Павловна Третьякова-Гриценко (1870–1928), страдавшая под конец жизни психическим расстройством, воспоминаний не оставили, а ту часть архива отца, которой сын располагал, он передал в Третьяковскую галерею. Сестра Бакста, жившая с ним в последние годы, Софья Розенберг-Клячко (1869–1944), также ничего не написала. «Вспоминали» на старости лет, и главным образом устно, три ее дочери: Марина Барсак[50], Мария Константинович и Берта Ципкевич[51]. Воспоминания Марины записали ее внуки Жан-Луи и Стефан Барсак. О качестве этих воспоминаний можно судить по написанной ее рукой по-французски биографии Бакста, хранящейся в архиве Парижской Оперы[52]. Она начинается длинной цитатой из статьи Арсена Александра в книге Декоративное искусство Бакста, которую я уже упоминала. Именно по этому изданию Марина Барсак и «вспоминала» о месте и дате рождения дяди (Петербург, 1868 год), о его жизни вплоть до переезда в Париж. Заканчивалась записка личными воспоминаниями такого рода: «Что я могу сказать об этом человеке? Мои воспоминания о дяде восходят ко времени, когда он вернулся в Петербург из Парижа после трехлетнего там пребывания. Мне было три года. Веселый, нежный, громко говорящий и всегда полный энтузиазма по отношению ко всему, что его занимало. Он очень любил (обожал!) двух своих сестер (одна из них – моя мать) и своего брата, журналиста и театрального критика. Он любил детей, особенно маленьких девочек, и занимался мной, причесывая меня и обучая меня моему имени и адресу на случай, если я потеряюсь на улице. Он водил нас, меня и маму, на выставку художников Мира искусства, которая помещалась в музее Штиглица. Впоследствии он выставлялся со своими друзьями из Мира искусства каждую весну в Салоне. Он был тогда преподавателем рисунка у детей великого князя Владимира Александровича, Кирилла, Бориса, Андрея и Елены; у меня сохранились фотографии, подписанные ими[53]. Он познакомился с семьей великого князя в эпоху Мира искусства благодаря Дягилеву; великий князь и его жена очень интересовались этим новым и оригинальным течением театрального искусства. Я мало что могу рассказать о юности Бакста, поскольку сама была слишком мала, чтоб понимать. Я только знаю то, что мне мама рассказывала. Она знала всех этих молодых людей, которые посещали моего дядю до создания Мира искусства. Мой дядя, его брат журналист и их две сестры жили вместе в скромной квартире, их родители развелись и оба снова вступили в брак. Их дети, молодые люди, не захотели жить с ними и поселились вместе, причем все работали. К ним приходили молодые люди, главным образом художники, артисты, талантливые и полные новых идей, Дягилев, Александр Бенуа, Дмитрий Философов, Нувель, Нурок и другие, полные энтузиазма. Они встречались то у одних, то у других, обменивались новыми, смелыми мыслями. С того времени и возникла идея организовывать выставки, свободные от тогдашней рутины. Благодаря связям Дягилева, самого из них предприимчивого, они смогли организовать выставки картин не только в России, но и за границей. Потом возникла идея издавать журнал, который отражал бы их представления о современном искусстве: Мир искусства»[54]. На этом воспоминания Марины Барсак заканчиваются[55].
При чтении такого рода воспоминаний встает не только вопрос об их достоверности, о проценте в них правды, о близости автора источника к нашему герою, но и важный вопрос о качестве, об интеллектуальной соразмерности описываемому. Ведь мы можем, например, представить себе воспоминания булочника или врача художника, которые сообщат нам о том, какой хлеб он любил или в каком состоянии были его зубы… И что делать, когда речь идет о воспоминаниях человека близкого, но неспособного понять и разделить мысли нашего героя? Разумеется, всеми такими источниками можно пользоваться, но нужно при этом иметь в виду, какого рода знание мы из них извлекаем. Знание же, которое мы будем искать на страницах этой книги, касается интеллектуального мира Бакста. И мы, стало быть, будем выделять из массы воспоминаний те, авторы которых находятся на равном с ним интеллектуальном уровне. О том, что Бакст сам себя и некоторых своих друзей считал интеллектуалами, у нас имеется немало свидетельств. Вот одно из них. Незадолго до своей кончины, в феврале 1924 года, Бакст дал интервью французскому журналисту Луи Тома, который расспрашивал его об Иде Рубинштейн[56]. В том, как Бакст охарактеризовал Иду, мне кажется, можно почувствовать, что он думал о себе самом: «Ида Рубинштейн родилась в Петрограде в очень обеспеченной и достойной семье, получила строгое воспитание, обучалась нескольким языкам, музыке, танцу. Она навсегда сохранила крепкую дружбу с книгами… С интеллектуальной точки зрения у нее есть один своеобразный дар, который я назвал бы интеллектуальной волей: она может выучиться всему, чему ни захочет. Это стальной клинок»[57].
И последнее. Если точнее определить тему этой книги, то можно сказать, что она – об основной составляющей интеллектуального мира художника, а именно о греческой, архаической. Ибо эмансипированное еврейство Бакста – как идейная и образная конструкция – базировалось, как мы увидим, именно на образах греческой архаики. Речь, стало быть, пойдет об очередном Ренессансе, который чем-то был похож на предыдущие, а чем-то от них серьезно отличался[58]. Как и для знания о всяком Ренессансе, нам необходимо будет выяснить, что именно Бакст и люди из его окружения думали об античной Греции, что они о ней знали или как грезили: часто эти два аспекта – правда и поэзия – переплетались, одно другим питаясь. Чтобы разобраться в этой ситуации[59], мне придется задействовать довольно широкий пласт философской, эстетической, исторической и критической литературы, доминировать в которой будет, как я уже сказала, ницшеанский корпус. Одним из основных положений, которое я постараюсь здесь развить, будет связь между творчеством зрелого Бакста – символическим концентратом которого является картина «Античный ужас» и, затем, образ Фавна из балета «Послеполуденный отдых фавна», – ницшеанством и идеей художника о том, что он сам называл «еврейским миросозерцанием».
И, наконец, самое последнее. Поскольку эта книга отнюдь не является еще одной монографией о Баксте, многих работ, фактов, деталей я в ней не упоминаю[60]. По той же причине книга снабжена небольшим количеством иллюстраций. Существует множество иллюстрированных альбомов, каталогов и монографий о Баксте; интернет переполнен репродукциями его произведений; у русского читателя от них уже оскомина. Это малое количество только самых необходимых репродукций заставляло меня подробно описывать произведения, которые я комментирую; а ведь описание – это важный шаг к пониманию.
Глава 1
«Свое родство…»
Под номером сто тридцать шесть
Начнем с самого, казалось бы, простого, но в случае с Бакстом отнюдь не очевидного: с имени, отчества, фамилии, даты и места рождения. Что касается имени, Александр Бенуа вспоминал, что свои ранние рисунки Бакст подписывал «не Л. Розенберг, а Л. Бакст, чему Левушка давал довольно путаное объяснение – будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то дяди, не то деда»[61]. Под конец жизни Бенуа так комментировал это утверждение: «Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени „Бакст“, которое Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг. Последняя значилась у него в официальных бумагах. Едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука, что делалось главным образом для того, чтобы внуку избежать военной повинности»[62]. «Путал Левушка что-то и про свое „отчество“. Так, вдруг он попросил адресовать письма к нему на имя не Льва Самойловича, а Льва Семеновича, а затем, через еще несколько месяцев, он снова вернулся к „Самойловичу“… – вероятно, найдя это имя более благозвучным»[63].
Та же расплывчатость в сведениях, касающихся даты и места рождения. В ЕЭБЭ Сыркин пишет о Баксте как о «современном живописце и рисовальщике, родившемся в Петербурге в 1867 году»[64]. Арсен Александр утверждает, что Бакст родился годом позже, в 1868-м, также в Петербурге. Валентин Светлов в своей статье «Искусство Бакста», опубликованной в Нью-Йорке в 1927 году, повторяет ту же информацию о месте и годе рождения своего друга: Петербург, 1868 год[65]. По мнению Светлова, биография Бакста не имеет особого значения, поскольку она «не была богата внешними событиями, а состояла, собственно говоря, в непрерывной, неустанной, плодотворной творческой активности». Лишь его искусство, а не жизнь, имеет подлинный смысл: «он создал новое направление невероятной важности; не будет преувеличением назвать это направление революционным»[66]. А революционеру, порывающему с традицией, с корнями, необязательно иметь «происхождение». Что же до биографа Бакста, Левинсона, то он не обмолвился о месте и годе рождения своего героя ни единым словом, а начал Историю Льва Бакста с описания Петербурга, Садовой улицы, где жили родители Бакста, и Невского проспекта, где жил его дед. Сам же Бакст в анкете на соискание ордена Почетного легиона указал, что родился он в Петербурге, 10 мая 1866 года[67].
А что говорят по этому поводу архивы? По меньшей мере одна копия свидетельства о рождении Бакста сохранилась в Российском государственном историческом архиве в Петербурге, в фонде Академии художеств (789), который знают все историки русского искусства[68]. Приведем этот документ полностью: «Копия. Свидетельство. Дано сие от меня нижеподписавшегося гродненского общественного раввина в том, что двадцать седьмого апреля тысяча восемьсот шестьдесят шестого года родился в городе Гродно от законных супругов Израиля Самуила Баруха Хаимовича Рабиновича и Баси Пинхусовны, урожденной Розенберговой, сын, которому наречено по еврейскому обряду имя Лейб-Хаим, коего рождение записано в метрической книге гродненского еврейского общества о родившихся за упомянутый год под № 136. Во уверение чего подписью моею и приложением казенной печати удостоверяется. Г. Гродно, 28 февраля 1867 года. Общественный раввин Г. Ривкин. Что настоящее свидетельство с подлинною метрическою книгою о родившихся евреях по Гродненскому обществу за 1866 год, хранящейся в Гродненской городской управе, записано под № 136, в том Гродненская Городская управа надлежащими подписью и приложением печати удостоверяет. Июля 16 дня 1882 года, город Гродно. Член управы Г. Любич. Секретарь [неразборчивая подпись]. Делопроизводитель Антушевич. Означенные в сем свидетельстве еврейские имена сына Розенберга Лейб-Хаим в переложении на русский язык означают „Лев-Виталий“, в чем подписью с приложением печати удостоверяю. С. – Петербург, 20 июля 1882 года. Петербургский Раввин, Доктор Философии Абрам Драбкин. Удостоверяю верность этой копии с подлинником её, представленным мне, Николаю Сергеевичу Потапову, исправляющему должность Санкт-Петербургского нотариуса Михаила Петровича Малахинского, в конторе его Адмиралтейской части, по Невскому проспекту в доме 13, потомственным почетным гражданином Израилем Розенбергом, живущим в том же доме № 13, при сличении мною этой копии с подлинником подчисток, приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было. Копия эта засвидетельствована для представления оной в учебные заведения»[69].
Итак, ребенок, которого позднее будут знать во всем мире как Леона Бакста, родился не в Петербурге, как сам он писал, а в Гродно, в черте оседлости, недалеко от польской границы, на реке Неман. Город, считавшийся одним из центров польского еврейства, вошел в состав Российской империи в 1795 году и в 1801-м стал центром Гродненской губернии. По данным ЕЭБЭ, в 1859 году евреи составляли 53 процента общего гродненского населения: «Торгово-промышленная жизнь города издавна сосредоточивается почти исключительно в руках евреев: 88 % (1.165) всех торговых заведений в 1886 г. принадлежали евреям, из 129 купцов евреев было 103; 72–80 % промышленных предприятий принадлежали евреям (недвижимостью в городе евреи владели в 1886 г. – 65.16 %). Также и ремесленная деятельность находилась преимущественно в руках евреев; еще в 1859 г. из числа 575 ремесленников в Гродно 70 % было евреев, позже процент этот усилился ‹…› По занятиям на первом месте у евреев стоит изготовление одежды, коим занято всего (считая и членов семейств) 3.563 человек, ок. 16,7 % евр. нас»[70].
В Гродно родились, помимо Бакста, фотограф и поэт Константин Александрович Шапиро (1839–1900), ученик Антокольского скульптор Илья Гинцбург (1859–1939). Наш герой, как мы видели, родился 27 апреля 1866 года, получил имя Лейб-Хаим, но фамилию носил отнюдь не Бакст и не Розенберг, а Рабинович[71]. Так звался его отец: Израиль-Самуил-Барух Хаимович Рабинович, мать же звалась Бася Пинкусовна Розенберг. Последняя была дочерью Пинкуса Хаимовича Розенберга от его первого брака с Гителью Бакстер.
Первая фотография мальчика по имени Лейб-Хаим Рабинович сделана в Гродно[72]. Ребенку около года. Он сидит в обитом бархатом кресле, в ателье гродненского фотографа. За его спиной колонка-подлокотник для тех, кто снимается стоя. Он одет в русский костюм: в шаровары, заправленные в сапожки, в вышитую косоворотку, подвязанную поясом. Ничего «еврейского» в его облике и костюме нет. Ничто не выдает его происхождения. Помимо этой фотографии у нас нет никаких материалов, свидетельствующих о присутствии в Гродно семей Рабиновичей или Розенбергов: серьезные поиски в гродненских архивах не дали ничего существенного[73]. К этой странице раннего детства художника нам, стало быть, добавить нечего. Как мы увидим, семья перебралась в Петербург вскоре после рождения Лейба-Хаима. Воспоминания о Гродно у художника едва ли сохранились, он вряд ли туда когда-либо возвращался и, видимо, именно поэтому писал потом везде не совсем то, что было, а то, что было «почти», а именно, что родился он в Петербурге. Таким образом, гродненские корни Бакста нам не дают ничего или почти ничего существенного. Это место рождения – не столько данность, сколько ее отсутствие, расплывчатое нечто, о котором необязательно вспоминать. И впрямь – зачем? Не лучше ли сразу родиться в Петербурге, вне черты оседлости? Ведь именно там Бакст родился по-настоящему. А раз так, значит, можно и в остальном жить свою жизнь, придумывая и поправляя ее как нечто, что со «случайными» физическими и географическими, временны́ми и пространственными данными, такими как место рождения, встречается лишь по касательной, зависит от них, но не слишком и скорее по принципу отталкивания. Это расстояние между Гродно и Петербургом, между «данным» от рождения, «полученным» по наследству и приобретенным, эта тысяча с небольшим километров, этот зазор между обстоятельством и выбором, между правдой и поэзией, жизнью и судьбой можно рассматривать как парадигматическое для процесса выстраивания Бакстом своей «истории». Страстный читатель Софокла, будущий оформитель одной из самых его трагически-пронзительных пьес Эдип в Колоне (1904), Бакст постоянно размышлял над понятием фатума. До момента прозрения Эдип не знает места своего рождения. Пытаясь спастись от пророчества, он покидает фиктивную родину, которую принимает за настоящую, с тем чтобы оказаться изгнанником на родине подлинной и осуществить предреченное богами. В отличие от Эдипа Бакст знает место своего рождения, но делает вид, что не знает, и создает тем самым то поле приблизительности, которое оказывается зоной свободы, территорией творческой, раскрепощающей, хотя иногда и призрачной. Но недаром так любит он Софокла и верит в рок: подлинное место рождения – в черте оседлости – настигнет его позднее, в 1912 году, и выпроводит навсегда из России, далеко и от Гродно, и от Петербурга, – в Париж, который примет его, как Афины приняли Эдипа.
Парижский призрак, между тем, так же маячил где-то рядом, с самого начала, сливаясь с не менее приблизительным, волнующим и грозным образом дедушки, поименованным, как мы видели, в свидетельстве о рождении Лейба-Хаима – Пинкусом Хаимовичем Розенбергом.
«Французский» дедушка
В Истории Льва Бакста Андрей Левинсон посвятил этому дедушке целую главу под названием «Салон канареечного цвета», за строками которой особенно отчетливо слышим мы рассказы самого Бакста. Мы знакомимся здесь с мальчиком Левушкой, который живет со своими родителями на Садовой улице, так прекрасно описанной Достоевским[74], в этом «шумно-тривиальном» квартале[75]. По субботам мальчик отправляется к своему дедушке, который проживает на Невском проспекте. «У этого маленького благоразумного существа, зажатого в безысходной реальности, был свой чудесный сезам, свой таинственный сад. Каждую субботу Левушка отправлялся на Невский проспект, туда, где в двух шагах от Генерального Штаба, от его грандиозного красного полукруглого фасада, от Зимнего дворца и от Адмиралтейства, в самом сердце надменных архитектурных феерий, жил дедушка, существо великолепное и туманно-таинственное, который, сам о том нимало не подозревая, приобщил будущего художника к культу Красоты, к трепету странного, к заклинанию роскоши. В доме деда ребенок попадал в необычайный, старомодный мир, искусственный рай его первых лет. Ибо будь то раннее влияние или атавизм, но это восхищение будет царить в жизни Бакста и определит, как это ни покажется странным, его призвание. Во всяком случае, художник, который в один прекрасный день долго делился со мной своими воспоминаниями, склонен так думать»[76].
Повторюсь: за стилизованным, несколько экзальтированным рассказом Левинсона стоят слова самого Бакста. Именно поэтому все нам здесь важно. На примере этого отрывка мы можем буквально проследить, как Бакст плетет свою легенду, выстраивает свои воспоминания, в которые сам почти верит, как творит он память о «великолепном, туманно-таинственном» предке, живущем не просто в Петербурге, а в самом его прекрасном, феерическом, царственном и царском сердце рядом с дворцом, в центре, замкнутом полукругом Генштаба, в котором обитают близкие к трону аристократы и в котором царит Красота. Кто же этот таинственный и благородный дедушка, священник в храме Красоты? Послушаем дальше, что рассказывает Левинсон:
«Дедушка, любопытный персонаж, был парижанином эпохи Второй Империи[77], светским львом, который – вполне возможно[78] – общался с такими персонами, как Морни и Паива, был любезным эпикурейцем, человеком вкуса на манер своей эпохи, который создал себе в Петербурге дом, достойный его неистощимых воспоминаний»[79].
Итак, дед был парижанином: между центром Петербурга и Парижем расстояние было, оказывается, короче, чем между Петербургом и Гродно. А когда жил дедушка в Париже? А может быть, он даже там родился? Все биографы Бакста, и особенно восторженно – выходцы из его семьи, его внучатые племянники, будут повторять эту историю, а те, кто в ней все же усомнится, придумают другого дедушку-француза, не Розенберга, а Бакстера, по материнской линии. Ведь невозможно же не поверить в этого дедушку – денди, друга (вполне возможно!) банкира, политического деятеля, депутата и министра графа Шарля Августа Луи Жозефа де Морни (1811–1865). Говорили, что Морни был внебрачным сыном самой королевы Голландии Гортензии де Богарне и графа Флао и приходился, таким образом, внуком Талейрану и сводным братом Наполеону III. Правда, Левинсон не говорит прямо, что дедушка Бакста дружил с де Морни, а употребляет это имя во множественном числе, как имя не собственное, а нарицательное, но это только усиливает эффект: дедушка Бакста дружил не с одним де Морни, а с целой командой ему подобных. То же самое в случае с Паивой (1819–1884). Это была очень красивая, знаменитая и богатая куртизанка еврейского происхождения (ее настоящее имя Эстер Лахман), родившаяся в Москве, в семье ткача. В 1836 году она вышла замуж за мелкого парижского портного, но, быстро покинув своего супруга, стала одной из самых блестящих дам полусвета, покровительницей искусств и владелицей особняка на Елисейских Полях, этого символа безудержной роскоши, который знают все парижане и в котором центральный зал был как раз желтым, канареечным. Дед Розенберг водился, стало быть, не только с де Морни, но и с «такими, как» Паива. Впечатление, будто читаем французский роман в духе Дюма-сына. Сам Левинсон не сообщает о профессии деда-парижанина, но позднейшие биографы припишут ему статус кутюрье: таким, как Паива, нужны были наряды. И призвание Бакста от деда к внуку – от кутюрье к костюмеру – объясняется как по маслу.
Далее Левинсон описывал канареечный салон в петербургской квартире деда, который приводил Левушку в восхищение еще и потому, что в квартире его родителей ничего подобного не было. «Все в этом приюте мечты волновало чувствительность ребенка: шитые позументом шелка, прихотливые орнаменты, отягощенные позолотой. Но наивысший восторг вызывал золотой салон со стенами, затянутыми канареечным шелком, с рокайльной мебелью по моде 1860-х годов, с белыми мраморами и желтыми кашпо, в которых росли редкие растения, и – пароксизм счастья! – четыре золотые клетки, в которых егозили канарейки. В углу, на подставке – огромный макет Соломонова Храма с его фантастической архитектурой; на большой картине евреи были изображены скорбящими перед разрушенными стенами Сиона. Бывший парижский светский лев не предал свое племя. Он не забыл Иеремию ради Терезы»[80]. Что это за Тереза? Имя это было «псевдонимом» Паивы в начале ее скандальной карьеры. На что же Левинсон, вслед за Бакстом, намекал: уж не на связь ли деда Розенберга и Паивы? Увековеченный пером Золя, Бальзака, Мопассана, Дюма образ парижской куртизанки стал во второй половине XIX века всемирным фантазмом[81]. Не было выше шика для знатного европейца того времени, чем содержать парижскую куртизанку. В эпоху Второй Империи это не только не скрывалось, но даже афишировалось, свидетельствуя о положении в обществе, успехе как финансовом, так и социальном. В среде этих дам полусвета, или, как их называли, Больших Горизонталок[82], процветала мода. Они были покровительницами самых смелых кутюрье, таких как Шарль Фредерик Ворт (1825–1895), портной императриц, актрис и, не в последнюю очередь, куртизанок.
Вот в каком блестящем мире вращался дед Розенберг. Вот в чьем доме, в чьем канареечном салоне сложился вкус нашего художника. Читателю, знакомому с искусством Бакста, конечно, будет трудновато узнать его в претенциозной, кичливой красоте интерьеров розенберговских апартаментов, которые вызовут у него скорее улыбку, чем восторг, и которые, как в кривом зеркале, пародируют, кстати, архитектуру Зимнего дворца и его интерьеров. В целом же образ деда, который складывается при чтении этого описания, близок к тому типу эмансипированного еврея, которого Ханна Арендт называла «выскочкой[83]» (к этому типу она относила, например, Стефана Цвейга, к нему же принадлежал, несомненно, и прустовский Сван): его характеризовала страсть к светскому обществу, связям, показной роскоши – частью которой является куртизанка – и в целом к демонстрации своего успеха.
Но вернемся к документам. Что сообщают они нам о дедушке-парижанине? Благодаря даже не архивам, а скорее справочникам, мы впервые встречаемся с подлинным Пинкусом Хаимовичем Розенбергом в 1860 году, за шесть лет до рождения Левушки. Ему 41 год, он произведен в купцы второй гильдии. В таковой гильдии он пребывал в течение семи лет и в 1867 году перешел в первую. Этот переход был записан в Справочнике петербургских купцов на 1867 год: «Розенберг, Пинкус Хайлович (так!), 46 лет, Еврей, в куп[еческом] сост[оянии] с 1860 г. а с 1867 по 1гил[дии] Жит[ельство] Адм[иралтейская] ч[асть] в д[оме] Габса, по Нев[скому] пр[оспекту]. Содерж[ит] магаз[ин] готов[ых] воен[ых] вещ[ей] в том же д[оме]. На гор[одовой] службе не был, сост[оит] Поч[етным] Старш[иной] Никол[аевского] Детс[кого] Пр[июта] с 1865 г.»[84]
Первое, с чем нам придется по прочтении этих строк расстаться, это с образом светского кутюрье. Пинкус Розенберг, родившийся в 1821 году, был, как минимум начиная со своих 39 лет, торговцем военной униформой. Был он богатым и даже очень богатым купцом, поскольку, чтобы вступить в первую гильдию, нужно было иметь капитал, превышающий пятьдесят тысяч рублей. А это была огромная сумма. Но, может быть, прежде чем стать таковым, в юности, жил он в Париже и кутил в золотых салонах Терезы-Паивы? Эта гипотеза, к сожалению, также не выдерживает проверки. Гораздо более близким к истине представляется рассказ, который мы находим в Воспоминаниях писателя еврейского происхождения, бывшего кантониста Виктора Никитина (1839?–1908)[85]. Никитин водил тесное знакомство с Пинкусом Розенбергом, сотрудничал с ним, в частности, в рамках Тюремного комитета, председателем которого был Розенберг и членом которого состоял одновременно с ним Никитин. Действительно, если в Книге петербургских купцов на 1869 год Пинкус Розенберг, 48 лет, записан точно так же, как в книге на 1867 год[86], то в справочнике на 1871 год он значится уже директором Тюремного комитета, назначенным на эту должность в ноябре 1870 года[87]. Нам стоит доверять свидетельству Никитина, который сам в дальнейшем стал директором означенного комитета. «Протянулись годы, в течение которых я изучал его [Розенберга] из любопытства и вызывал его на откровенность. ‹…› Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой команды и закройщиком Преображенского полка в качестве портного, обшивал он офицеров. Выйдя в отставку, умом и ловкостью открыл и быстро расширил свою мастерскую до значительных размеров и одновременно ссужал заказчиков деньгами под проценты, а когда разжился – продал мастерскую, приписался в купцы и в члены благотворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался в почетные граждане, поселился в бельэтаже на Невском, обставил шикарно квартиру, женился на молоденькой красавице еврейке и ежедневно катался с ней по Невскому в щегольском экипаже. Она обращала на себя особое внимание светских франтов, но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него денег. Мало-помалу он сделался светским ростовщиком и узнал всю высшую аристократию, посредством наживы от нее. Короче, его знало все столичное общество»[88].
Покончив с образом парижского кутюрье, нам придется познакомиться с этим новым дедушкой Розенбергом, бывшим в юности не светским денди, а солдатом-швеей Преображенского полка, а затем ростовщиком с весьма сомнительной репутацией, который, несомненно, воспользовался законом 1867 года, позволившим низшим слоям армии, в том числе евреям, оставаться на пенсии в тех местах, где они служили, даже вне черты оседлости, – и поселился в Петербурге. Он разбогател на поставках армии, полученных благодаря ловкости и связям, оставил прежнюю жену по фамилии Бакстер и женился на молодой красавице, которую использовал как приманку для заведения новых связей. Короче, дедушка был еврейским нуворишем, Шейлоком, мишенью для антисемитских карикатур, в которых еще с XV века фигурировал весьма непривлекательный образ еврея-ростовщика[89]. Так же карикатурно описал в одном из своих коротких рассказов дедушку Розенберга Аркадий Аверченко, близко знавший Бакста по работе в журнале Сатирикон. Правда, в этом рассказе Пинкус изображен хозяином «маленькой мануфактурной лавчонки», а отнюдь не магазина военной формы в доме Габса на Невском проспекте, 4. Но нам здесь важнее атмосфера.
В лавку Пинкуса Розенберга заходит чиновник Самсонов и просит «темно-синего бархата». Комизм ситуации заключается в том, что такового у Пинкуса нет, но отпустить клиента с пустыми руками он не намерен. Используя невероятные речевые кульбиты, Пинкус пытается продать Сазонову не темно-синий бархат, а темно-синий шелк, манчестер или кретон, или же бархат, но черный. Сохраняя один из двух элементов в формулировке просьбы (материал или цвет), он пытается подменить второй и таким образом, разыгрывая то глухоту, то глупость, «охмурить» клиента, который между тем не сдается. Дуэль торговца с покупателем приправлена гротескно переданным Аверченко «акцентом» Пинкуса, говорящего на «еврейско-русском», сдобренном такими выражениями: «это было бы не так смешно, как грустно», «я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия», «как вы найдете этот гениальный бархат», «он почти темно-синий; уже такой почти, что дальше некуда», «теперь самый модный бархатный цвет так это черный; всякий человек носит этот цвет», «такой синий, что даже тяжело видеть», «что вы потом снизойдете горькими слезами», «я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда».
Этот антисемитский прием карикатурного имитирования «акцента», являющегося следствием еврейского билингвизма, неожиданно принимает в конце рассказа Аверченко совершенно иной характер, когда – почти как у Шекспира – от бренной материи мысль Пинкуса взвивается в метафизические высоты: «Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику…»
Так же, почти трагически и вместе с тем абсурдно, звучит отказ Пинкуса признать на некоем опять же метафизическом уровне тот факт, что темно-синего бархата у него нет, а точнее, самый факт того, что чего-то у него может не быть: «Что значит – нет? Синий бархат мы ждем – через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике, галстуки…» Но даже принимая в расчет этот грустноватый философический тон, аверченковский торгаш Розенберг так же карикатурен, как и далек от «парижского» дедушки.
Интереснее и глубже образ Пинкуса Розенберга в воспоминаниях Никитина. Последний описывает благотворительность купца как его взнос обществу за членство в нем: «…в Комитете считался в числе полезнейших членов: за право называться Директором и сидеть между известными лицами он щедро платился». И все же Никитин признает действительную, непоказную щедрость Пинкуса и его заинтересованность в делах Тюремного комитета, а также Николаевского детского приюта. Специальная кухмистерская для евреев-арестантов содержалась в Петербурге на его личные деньги; так же, на свои деньги, заказывал он новые матрасы и кровати для детей приюта. Отдельные его жесты носили благородный, даже, можно сказать, аристократический характер: так, дал он всю сумму на починку водопровода, «лишь бы перестали спорить». Другим аспектом деятельности Розенберга было его предпринимательство, связанное с верой в технический прогресс. Известны были его крупные вложения в «Товарищество электрического освещения Петербурга» Александра Николаевича Лодыгина[90]. В договоре об этом товариществе, подписанном 16 сентября 1874 года, Пинкус Хаймович Розенберг фигурирует как петербургский первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин.
Перед своей кончиной в 1881 году, в присутствии Никитина, Пинкус Розенберг возвращал какому-то знатному лицу, имени которого Никитин не называл, деньги, полученные без расписки: «…теперь я рад, что отдал их ему; я сильно сомневался, чтобы жена возвратила их в случае моей смерти, потому что она жадная на деньги, а я не хочу умирать бесчестным».
Но наряду с такими свидетельствами человеческих качеств, сочувствия и бескорыстия, некоторые записанные Никитиным разговоры с Розенбергом погружают нас в бездны его амбициозности:
«– Кто в Петербурге первый человек?
– Государь.
– Нет, а кроме царской фамилии?
– Не знаю.
– Так я Вам скажу: я, да, я.
– Почему Вы?
– Потому что вся аристократия мне должна, и векселями ее наполнен вот этот железный шкаф; она меня любит за то, что я ее выручаю, и уважает за то, что я ей услуживаю, а некоторых и обогащаю».
Говоря это, Розенберг показывал Никитину «серебряный макет иерусалимской синагоги величиной с полкомнаты».
Мы, вероятно, никогда не узнаем, о чем действительно шла тут речь: имелась ли у Пинкуса модель храма, о которой пишет Левинсон, или иерусалимской синагоги, которую упоминает Никитин. Но храм ли, синагога ли – такого рода модели, будучи большой редкостью, известны все наперечет. Одна из моделей была создана в середине XVII века Яковом Иудой Леоном из Амстердама: она воспроизводилась во множестве гравюр[91]. Автором другой был Герард Шот из Гамбурга. А во второй половине XIX века Конрад Шик построил ряд таких моделей и ездил с ними по Европе. В Петербурге, насколько известно, в частных салонах таковая модель практически не встречалась. Так что в данном случае деду было чем серьезно гордиться.




















